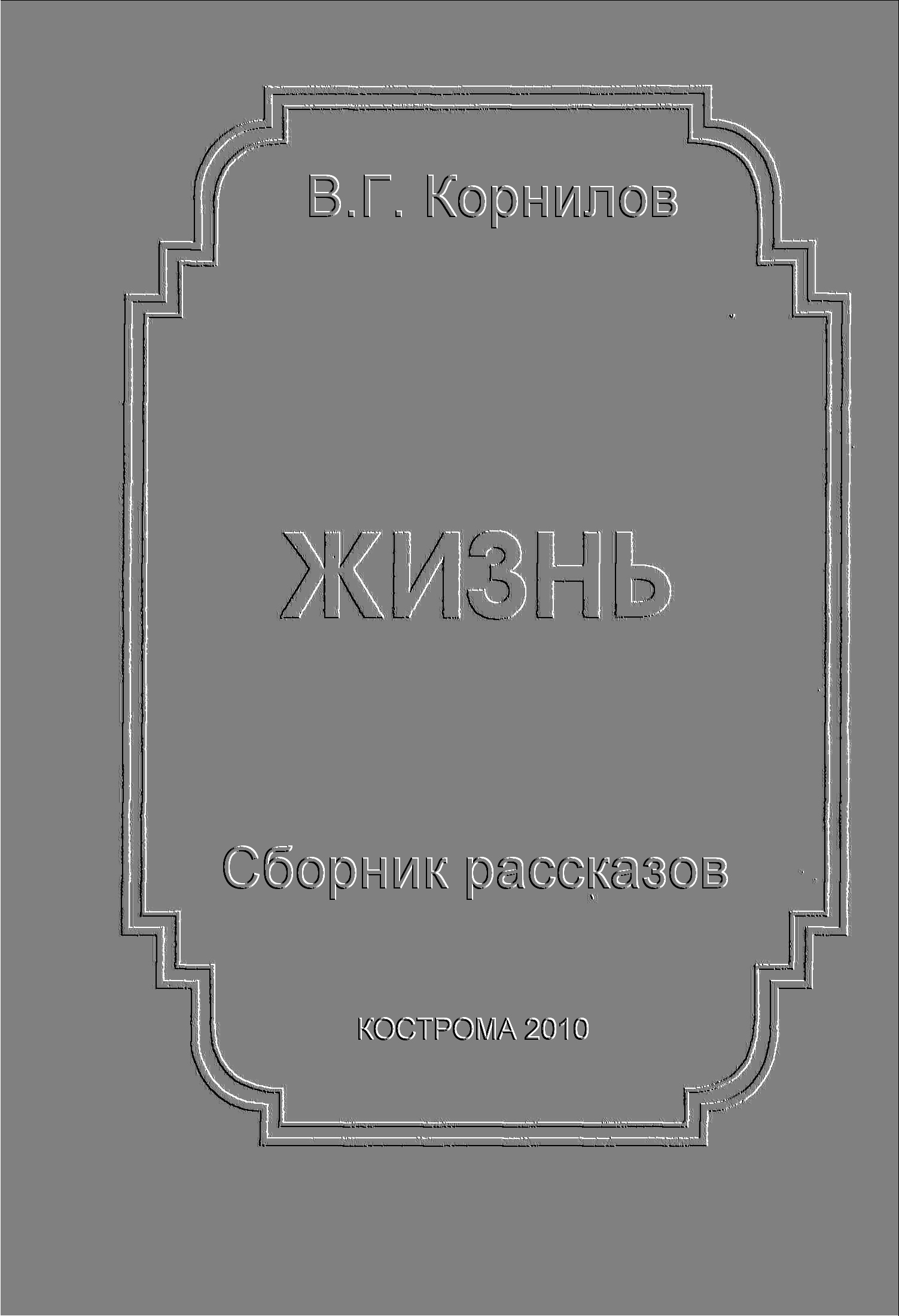ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
КОРНИЛОВ
Ж И З Н Ь
Сборник
рассказов последних лет,
главы из неоконченного
романа

АМОР
«САМОСОТВОРЕНИЕ»
КОСТРОМА
2010

От редактора:
В настоящий сборник, подготовленный к 87 годовщине со дня рождения выдающегося советского и русского писателя Владимира Григорьевича Корнилова, вошли рассказы, написанные в последние годы его жизни. Созданные на основе впечатлений его отрочества, юности и уже взрослой жизни, они охватывают три этапа становления одной личности.
Читателям, уже хорошо
знакомым с творческим талантом писателя, в этих небольших по форме, но глубоких
по силе мысли, миниатюрах, его личность высвечивается новыми яркими гранями.
Тем, кто только ещё начинает знакомиться с образами и впечатлениями из мира
Владимира Григорьевича, предстоит удовольствие постичь его непростой путь, под
названием «Жизнь»…
Кроме рассказов, впервые опубликованных в
посмертном сборнике «Мои невесты», мы посчитали необходимым включить в эту
публикацию и главы из незавершённой автором четвёртой книги его семейно-философского
романа («Семигорье», «Годины», «Идеалист»), которую автор так и хотел назвать –
«Жизнь»… Впрочем, одна из глав этой книги неоконченного романа - «Завещание»,
сохранила формат полноценного рассказа, которым мы вполне оправданно и
завершаем настоящую публикацию. Ибо разве можно лучше и правдивее сказать о
своей жизни, чем это сделал автор: "Я сделал все, что мог. Пусть сделают то же другие"…
Из моего детства
Юность
Жизнь
Петух-предприниматель (сказочка)
Жизнь
Главы из неоконченного одноименного романа

Приходит время, когда до
щемящей сердце боли овладевает зов прожитой жизни. И почему-то прежде другого
оживают в памяти дни детства и отрочества. Не потому только, что в том
благословенном времени всегда есть романтика ожидания будущего. В детстве и
отрочестве мы начинаем познавать мир, нас окружающий, и себя в этом, не всегда
еще понятном нам мире. В пытливой душонке, податливой на добрые и не добрые
дела, закладывается то, что ответно и непременно проглянет в будущей, уже
взрослой, твоей судьбе.
Зову читателя в мир
отрочества, может быть, что-то созвучное встрепенется в памятных душах тех, чье
детство далёко отодвинулось от дней нынешних, и в сердцах тех, кто ныне еще
пребывает в днях доверчивого отрочества.

Странное понятие судьба! Говорят, человек полагает, а Бог
располагает. Не знаю, Бог ли располагал нами. Но теперь, вспоминая все, как
было, могу сказать, кто выстраивал мою судьбу. Жизнь маленькой нашей семьи
определялась судьбой отца, а судьбой отца распоряжался кто-то там, наверху, не
на небе, разумеется, а в кабинетах Наркомата Лесной промышленности, поскольку с
первого года революции отец связал свою жизнь с большевиками и лесами.
А поскольку люди, назвавшие себя большевиками, взяли власть и
стали управлять хозяйством страны с неоглядными ее лесами и прочими природными
и человеческими богатствами, им, и дано было решать, где отцу работать и какое
дело делать. Работать отец умел, умел организовывать других людей на нужные
стране дела, наверху работу его ценили, и когда где-то появлялась нужда в
толковом руководителе, отца приглашали туда, наверх, и поручали то дело,
которое считалось в данный момент наиболее важным.
Так оказывались мы то в Тихвине, то в Ленинграде, то в Свердловске, то в Хабаровске. А теперь вот отцу предложили ответственный пост директора ЦНИИМЭ - Центрального научно-исследовательского института механизации и эксплуатации лесного хозяйства, который располагался не где-нибудь, а в столице, и в который раз мы привычно уложили все свое домашнее хозяйство в два фанерных чемодана, в мамину большую дорожную корзину и отбыли из Хабаровска поездом. В натужно пыхтящем паровозе в девятидневный путь, мимо Байкала, с длинными, темными его тоннелями через Уральские крутые подъемы и спуски, через Волгу, вокруг которой сложилась будущая, уже моя судьба, к загадочной Москве.
Квартира была обещана, а пока предстояло нам пожить в Строителе -
так называлась платформа, в двадцати минутах езды на электричке по Северной
железной дороге, первая после Мытищ.
Строитель тогда был поселком, среди почти девственных лесов. Среди сосен и елей стояли четыре, всего четыре рубленных обшитых тесом, двухэтажных дома барачного типа, в одном из них, на первом этаже, в квартирке из двух комнат нам и предстояло сколько-то времени прожить. Снова мы привыкали топить печи дровами, откидывать лопатой снег с крыльца, затыкать в окнах щели, сквозящие при ветре, спать, укрываясь с головой одеялом, сверху накидывая еще и пальто. Снова в число жизненных необходимостей вошла керосинка с закопченным слюдяным окошечком, через которое можно было следить за ровным пламенем двух широких горящих фитилей, при нужде подкручивая их, чтобы не коптили, зеленый чайник с оспинами отбитой эмали на носике и на выпуклостях боков, без которого не начинался и не заканчивался ни один из дней нашей семейной жизни, алюминиевая кастрюля для супа и чугунная сковорода. Неизменно мама поджаривала в этой сковороде на завтрак картошку вперемешку с кашей, оставшейся от ужина. Отец не придавал особого значения еде, всегда довольствовался тем, что наскоро готовила мама, к неприхотливости в еде и быту приучен был и я. Этим несколько облегчались мамины домашние заботы. Но постоянную ее грусть по Питеру, где она росла и была любима в семье, где зарождались ее девичьи мечты, так неожиданно обернувшиеся неостановимым кочевьем по России, облегчить мы не могли. Надежда и ожидание оседлой устроенной жизни поддерживали мамино терпение, потому упорно она, при самых дальних переездах, сохраняла при себе две вещи из Питерского прошлого: большую плетеную корзину, с широкими железными полосами, в проушины которые навешивались запирающие крышку замки - подарок маминой матери, моей бабушки, неутешно сокрушавшейся о неустроенной жизни любимой доченьки, и круглый туалетный столик розового дерева, с бронзовыми инкрустациями, - единственная вещь, увезенная мамой из роскошной квартиры сбежавшего от революции буржуя, в которую отца вселили по личному указанию Наркома в год, когда отец стал семейным человеком. Мама, будь ее воля, увезла бы с собой из ослепившего ее свадебного подарка не один бы этот столик, но отец жил другими, новыми понятиями. Он запретил даже думать о том, чтобы утяжелять свою жизнь буржуазным барахлом и только безмолвные слезы мамы и неожиданное упорство её, украсили спартанский наш быт изящным столиком, посверкивающим праздничной полировкой даже в деревенских домах, где приходилось нам жить.
Не обустроенный поселок в Строителе все-таки обнадежил маму - из
восьмитысячно километровой дали мы приблизились почти вплотную к столице, и
мама с мужеством, обретенным за время долгих скитаний, настроилась пережить
очередные житейские неудобства.
Что касается меня, то безлюдье, таинственность леса,
неограниченная воля, приносили мне радостей много больше, чем в городе.
Во-первых, я обрел почти взрослую самостоятельность. Школы, даже
начальной, в поселке, конечно, не было. Школа одноэтажная, рубленая, с широкими
окнами, с двумя просторными крыльцами по торцам, была в Мытищах, ездить в школу
надо было на электричке. После долгих переживаний, мама согласилась, наконец, с
отцом, долго объясняла мне, как переходить через железную дорогу, как ждать
электричку, ни в коем случае не подходить к краю платформы и т.д. и т.п. И
только после этого, вручила мне проездной билет с крохотной моей фотокарточкой
на нем. Каким-то чудом карточка сохранилась в маминых бумагах, и я, теперешний,
мог взглянуть на себя, десятилетнего: мальчик с круглым лицом, в осенней
кепочке, закрывающей половину лба, с ожидающим взглядом внимательных глаз, с
чуть припухлыми, будто бы насупленными губами, - таким запечатлел меня
беспристрастный фотографический аппарат 1933 года. В общем-то, судя по
фотографии, мальчик был неплохой, не злой, и ожидал, похоже, от жизни и людей
его окружающих только добра.
Особой любви к школе, к самому ученью, в то время у меня еще не
обнаружилось - учились все, и мальчишки и девочки, в наше отроческое сознание
школа входила как необходимый шаг в будущую взрослую жизнь и отлынивать от
школы нам даже в голову не приходило.
Свой долг третьеклассника я исполнял добросовестно, в одно и то же
время вставал, шел через лес к платформе, точно к приходу нужной мне
электрички, к занятиям не опаздывал, но учился средненько, ничем не выделяясь
среди других мальчишек нашего класса, и за домашние задания садился всегда с
чувством досады, спеша вырваться из дома на волю. Только там, на воле, ждал
меня настоящий, наполненный радостями и открытиями мир.
Все, чем полнилась жизнь поселка и леса, его окружающего, мы
обычно переживали втроем, - в домах жили еще двое, таких же непоседливых мальчишек,
один - старше меня на год, другой младше, тоже на год. Старший Колька-Дролька,
как прозвал его младший, и младший - Сашка-Головашка или Сашок - от полу
вершок, как дразнил его старший. Сашок и впрямь был по грудь старшему, с
большой, непричесанной головой, с тягучим ноющим голосом, но весь открытый и
отзывчивый на улыбку.
Именно здесь, в лесном Подмосковье, начали мы открывать страницы
бытия, вглядываться пытливо в сложные, не всегда понятные нам отношения между
взрослыми, которые, как догадался я потом, собственно и были жизнью. А
познавать жизнь мы начинали так.
Выдумщики мы были отменные, и в ряду всех прочих забав придумали
такую. Колька-Дролька раздобыл где-то кошелек, из коричневой кожи, видный
такой, привлекательный. Набили мы его нарезками из газет, чтоб пухлее казался,
привязали на тонкую, крепкую бечеву, пристроили на деревянных мостках, что
проложены были вдоль улицы, вместо тротуара, - в дожди земля размокала, грязь
расползалась по дворам и вокруг, и все ходили только по высоким мосткам, не
хуже, чем по городскому асфальту. За забором-штакетником, почти у самых
мостков, соорудили укрытие среди разросшихся лопухов, расчистили под травой
что-то вроде дорожки-тоннеля, по нему и протянули бечеву от кошелька.
Приманка подкинута, мы умостились в укрытии в ожидании развеселой
минуты.
Первой жертвой стали две расфуфыренные девицы, в оживленной
болтовне спешащие к станции. Каблуки их туфель дружно стучали по доскам
мостков, волосы пушились из-под фетровых беретов, в глазах - нетерпеливое
ожидание какой-то приятной, важной для них встречи. Впрочем, изучать характер
девиц мы не собирались, мы приготовились просто пошутить.
Кошелек лежал посреди мостков, хорошо был заметен. Девицы увидели,
враз ахнули.
- Смотри, смотри! Тугой, с
деньгами! - крикнула одна из них и, пока подружка ахала, нагнулась к кошельку с
протянутой рукой.
Колька-Дролька тихонько потянул за бечеву кошелек и будто живой,
поехал из-под руки, к краю мостков. Глаза у девицы округлились, она не сразу
сообразила, что происходит, старалась прихлопнуть кошелек, как упрыгивающую
лягушку. Было это так забавно, что в два голоса, мы захохотали, девица резко
выпрямилась, обе разгневанно посмотрели в нашу сторону, крикнули, нас не видя,
и ненавидя:
- Хулиганье!.. - Обе
девицы, торопливо, возмущенно побежали к станции.
Колька-Дролька был в восторге, долго не мог успокоиться, и вое
повторял, заново пристраивая кошелек на мостках:
- Классно придумали! Мы их
тут всех на чистую воду выведем!.. Следующей жертвой оказался артист, обитающий
в нашем доме, на верхнем этаже. Был он высок, толстоват по нашим понятиям, мимо
нас, мальчишек, шествовал, гордо неся большую свою голову, отягощенную, будто
сдвинутыми со лба к затылку лохматящимися волосами.
При встрече с моим отцом он всегда почтительно раскланивался, а,
заприметив маму, вставал на ее пути, прижимал руку к сердцу, склонив голову,
замирал, ожидая, когда мама подойдет. Произносил низким, каким-то рыдающим
голосом: "Разрешите вашу ручку..." - и прикладывал вытянутые губы к
маминой руке, заставляя ее страдальчески краснеть от стыда и удовольствия. Меня
артист совершенно не замечал, даже если я стоял рядом с мамой, я для него не
существовал. И, страдая от невнимания такого видного, такого важного в поселке
человека, я угрюмо и настороженно следил за его настойчивыми попытками
полюбезничать с мамой.
Артист шел от станции, как всегда медлительно, с достоинством неся
крупное свое тело. Был он в несколько приподнятом настроения, что-то напевал
себе под нос, раздувая щеки и пришлепывая губами. Кошелек, лежащий на мостках,
у самого края, он увидел, остановился в каком-то радостном изумлении. К
кошельку он не бросился, как торопливые девицы, нет. Он был артист, и вел себя,
как подобает артисту. Мы с Колькой-Дролькой притаились, замирая от
удовольствия, в четыре глаза следили за начинавшимся представлением.
Артист отвел глаза от кошелька, медленно повел головой влево,
потом вправо, вроде бы любуясь облаками, плывущими над лесом, в то же время
зорко оглядывая безлюдное вокруг себя пространство. Зрителе
Колька-Дролька потянул за бечеву, кошелек бесшумно соскользнул,
надежно захоронился под травой, а нервные пальцы артиста, услаждая нас игрой,
все шарили и шарили по опустевшим доскам.
Наконец, артист распрямился, кашлянул, озадаченно прикрыв рот
ладонью, будто невзначай через плечо, глянул на то место, где только что был
кошелек. Опять, как бы, между прочим, заглянул за край мостков, но трава там
была густая, мешала разглядеть интересующий его предмет.
Мы ждали, что артист прекратит унизительные для него поиски, но
уже овладевший им азарт корысти оказался сильнее. Улица, по прежнему была
безлюдна и все-таки, в привычке всегда чувствовать на себе глаза зрителя, он,
пританцовывая, вроде бы поджидая кого-то, прошелся взад-вперед по мосткам, как
бы по необходимости извлек из кармана носовой платок, шумно сморкнулся, и
аккуратно уронил платок точно над тем местом, где только что был кошелек.
Играя сам с собой, он развел руки, изобразив на лице улыбку
растерянности, как бы говоря кому-то: «Что поделаешь, вот, уронил, - поднять
надо!» - И, соступив с мостков, присев на корточки, стал быстро, двумя руками
раздвигать и прощупывать траву.
Наш восторг от вида артиста, растерявшего все свое величие из-за
какого-то жалкого кошелька, я и теперь выразить не в силах. Зажав рты, мы едва
сдерживались, чтобы не прыснуть смехом в его широкую, унизительно согнутую
спину.
Изобразив на лице оскорбленное достоинство, артист ушел, с
какой-то даже ещё большей гордостью, неся на плечах утяжеленную волосами
крупную голову. Но мы уже знали, что он, артист, не такой, каким хочет
казаться. И как бы потом не внушала мне мама, что наш сосед по дому - прекрасной
души человек, известный, талантливый актер столичного театра, для меня и для
Кольки-Дрольки, он навсегда перестал быть.
Расположив кошелек на мостках, мы решили дождаться еще одной
жертвы, вскоре на тропинке, пробитой через лес от станции к домам, показался
человек. Человек спешил, а когда вышел из сосен и вступил на мостки, я с
ёкнувшим сердцем узнал отца.
- Убирай кошель! -
сдавленно прошипел я, страшась неприятности. Колька-Дролька, торопясь, с силой
дернул, из травы вылетела отвязавшаяся бечева, кошелек остался на мостках. Отец
подходил. Мы сжались в укрытии, будто напуганные мыши. Теперь могу сказать, что
боялся я не столько того, что отец обнаружит нас: я боялся, что он обнаружит
себя, что он окажется таким же суетным, таким же мелочным, каким показал себя
артист.
Притаив дыхание, следил я за быстро подходящим отцом. Вот он
увидел кошелек, приостановился, брови его удивленно приподнялись над стеклами
очков в узенькой металлической оправе. Растерянно, как-то даже оторопело,
поглядел он вдаль мостков, оглянулся назад. Никого нигде не было.
Сердце моё учащенно забилось. Вот-вот, отец нагнется, поднимет
кошелек, сунет в карман и - все, навек он станет для меня таким же фальшивым,
как артист, и вряд ли сумею я это от него скрыть.
Отец поднял кошелек, не раскрыл, пожал плечами, подошел к краю
мостков, пошарил глазами, выглядел в канаве прут, воткнул в землю у края
мостков, обломил конец, на рогульку навесил кошелек. Всё это он проделал как-то
легко, ловко, как само собой разумеющееся - кто-то потерял кошелек,
спохватится, обязательно вернется на то место, где потерял, и кошелек, вот он,
тут , на веточке!..
Отец отряхнул руки, как после хорошо сделанной работы, поправил
очки, привычно быстро пошел к дому.
Колька-Дролька прошептал восхищенно:
- Ну, Вовка, отец-то у
тебя!..
А мои глаза жгли радостные слезы. Мне хотелось догнать отца, обнять, ткнуться ему в грудь, сказать, что он, папа, очень, очень хороший, что я очень, очень его люблю!..
*
*
*
Другая страница жизни открылась перед нами, как я помню, теплым,
почти летним майским днем, играли мы у крыльца в «ножичек» поочередно втыкая
его то с двух, то с трех, то с четырех пальцев в песок, и даже в азарте игры
услышали в лесу, за домами, какой-то короткий отчетливый щелк. Через какое-то
время щелк повторился, потом еще, еще...
Колька-Дролька насторожил уши.
- А ведь стреляют! -
сказал он.
Мы тут же сорвались о места. Два незнакомых нам, хорошо одетых, с
интеллигентными лицами гражданина встретили нас недовольными взглядами. Но мы
уже узрели в руках одного из них малокалиберную винтовку, и с загоревшимися от
любопытства и азарта глазами, прочно утвердились с ними, рядом.
Прекращать свое увлекательное занятие пришельцы не сочли нужным.
Хмурясь на нас, они медленно продвигались меж стволов сосен, вглядываясь в
зелено-мохнатые ветви.
Лес был в весенней поре. Какие только птицы не пели в этот день! В радости солнца, тепла, уже заложенных гнездовий, они заливисто свистели, ворковали, воздух, трепещущий светом и тенью, весь был пронизан живыми их голосами.
Эту распахнутую во мне радость отогретого после зимы гомонящего
леса мы смутно ощущали, и все-таки в какой-то хищной настороженности замерли,
когда винтовка в чужих руках поднялась и тонкий черный ствол, увенчанный
колечком с круглым столбиком мушки, уставился косо вверх. Щелкнул негромкий
выстрел, с ветки, как лист в осень, пала к подножью сосны растрепанная птаха.
Мы бросились к сосне, как бросались, наверное, первобытные люди к поверженной
добыче, но человек с винтовкой резким окриком, каким обычно осаживают
непослушных собак, остановил нас:
- Не сметь!..
Он поднял, положил на ладонь почти развалившегося от удара пули
зяблика, сдерживая нечистую радость удачного выстрела, показывал дымящуюся
кровью тушку приятелю, говорил:
- Поверишь? Я целился ему
в сердце, видишь?! - Он бросил зяблика на землю, снисходительно-размашистым
жестом протянул винтовку напарнику:
- Очередь твоя!
До сих пор не могу понять, какая темная сила захватила наши
неискушенные душонки. Как верные псы, мы бросились услуживать развлекающим себя
столичным гостям. Мы сновали среди сосен, зорко выглядывали поющих птах,
заискивающе звали:
- Дядь, дядь, сюда! Вона
на суку сидит!..
И дяди со снисходительной улыбкой шли на наш зов, прикладывали к
плечу винтовку, щелкали выстрелы, падали за землю птахи, а Колька-Дролька снова
кричал:
- Вона, дядя! Вона!.. - И
я подсказывал:
- Справа от Вас. Вверху.
На березе...
Что-то все-таки случилось в наших задичавших душах. На каком-то
пределе азарта, как-то вдруг мы все трое поскучнели, уселись под сосной,
отвернувшись от стрелков.
Дядек с винтовкой насмешливо окликнул:
- Что, охотнички,
притомились?..
Никто из нас не ответил. Что-то, как будто придавило только что
прыгавший в нас азарт чужой забавы.
Раскаянно я пожаловался:
- Столько птах
поубивали!..
Колька-Дролька сморщился, будто от подступившей тошноты, сказал
зло:
- Пошли...
Мы, торопясь, прошли через примолкнувший лес к домам, не
остановились даже у крыльца доиграть в "ножичек", даже не
попрощались, друг с другом - молча разошлись.
Чужая забава долго повторялась в моей памяти и, страдая, я в
детской наивности клятвенно шептал, что никогда, никогда не подниму руку на
живую крохотную птаху!..
*
*
*
Моя близость с природой, при самом любовно-трепетном к ней
отношении была до странности противоречива, как впрочем, противоречива вся
человеческая жизнь.
Помню самую-самую первую мою встречу с огромным жуком, с длинными,
свернутыми на концах в спиральки усами. Было мне, как узнал я потом, полтора
годика, и случилось это в Разливе, под Ленинградом, на даче, которую отец
снимал на лето для мамы, меня и нянюшки моей финки Хильды. Игрался я у крыльца,
на солнышке, и оказался один на один с невиданным существом. Помню угол
высокого дощатого крыльца, выкрашенного в синий цвет, желтое пятно песочка, на
котором сижу, раскинув пухлые голенькие ножки, и это вот неизвестное существо,
упрямо ко мне ползущее. Существо замерло у моей ноги. В детском - любопытстве
прикоснуться ко всему, что движется, я протянул свой слабенький пальчик и
прижал усача.
То, что случилось, было, настоящим потрясением для не проснувшейся
еще моей душонки, потому, видимо, и отпечаталось в моей памяти. Существо,
цепкими жесткими лапками охватило мой палец, и когда, отдернув руку, я увидел
висящее на моем пальце что-то безобразно-страшное, я отчаянно завопил и долго
потом плакал в добрых руках Хильды, а Хильда качала меня, успокаивала, ласково
приговаривала что-то про серенького совсем нестрашного жучка.
Странно, когда я подрос, я не боялся собак, ни волков, в
одиночестве мог днями, даже ночами бродить по самым глухим лесным урочищам, но
ползущие и летающие жуки долго еще вызывали во мне дрожь, я избегал брать их в
руки, и только будучи уже взрослым преодолел запечатленный в младенчестве
страх.
Похожий случай произошел, когда было мне уже четыре годика. Жили,
мы тогда в Свердловске, на первом этаже кирпичного дома с большим двором и
дощатым сараем для дров. Отец получил назначение на Дальний Восток, мы
перебирали и укладывали в дорогу вещи.
В ящике с книгами отец обнаружил на дне мышонка. Серенький, он
уткнулся мордочкой в угол и дрожал от страха. Отец, вовсе не жестокий по
характеру, с какой-то, не идущей ему агрессивностью, схватил стоящую у дверей
палку, прицелился ударить. Я возопил отчаянно, в моем возмущенном сознании не
укладывалось, как хорошенькое живое существо можно ударить. Отец в
растерянности уставился на меня, вопящего, спросил недоуменно:
- Что же делать? Он же
грызун!
С лицом, залитым слезами, всхлипывая от жалости, я поднял мышонка
за тонкий хвост, и так держа его вниз головой, побежал через крыльцо во двор,
дождь, помню, лил из надвинувшейся тучи, вмиг я промок, но хвост держал крепко
и бежал, шлепая по лужам, к сараю, чтобы там, под крышей, выпустить спасенного
зверька.
До сих пор для меня загадка, как, вися на хвосте, мышонок мог
подтянуться к моему пальцу и вцепиться в мягкий кончик зубами. От неожиданности
я разжал руку, мышонок упал на землю, серым шариком покатился среди мокрой
травы к сараю. На пальце моем проступили две капельки крови, но я крепился, я
не плакал. Домой я вернулся вымокший и смущенный. Мама молча стащила с меня
мокрую рубашку, смазала прокусанный палец йодом. Отец с любопытством смотрел.
- Ну, что, жалельщик,
отблагодарили тебя за жалость?
Я мужественно выдержал йод и справедливую насмешку. Все-таки я
чувствовал себя спасителем.
А через год, уже в Хабаровске, установилась у меня трогательная
дружба с другой мышкой, выползавшей из-под пола в кухню по водопроводной трубе.
Кусочками масла я отманивал её от дырки все дальше и дальше, и пугливая по
началу, с выпуклыми бусинками настороженных глаз, она терпением моим, бережливостью
и любовью стала почти ручной. Масло быстро-быстро она слопывала с моего пальца,
хотя в руки не давалась.
Долго скрашивала она часы моего одиночества в безлюдной квартире,
когда отец и мама уходили на работу, а в садик я тогда еще не был устроен. Я
жил наедине с собой в воображаемом мире, где перевернутые стулья изображали
горы, газеты, расстеленные на полу, - озера и реки, и по ним я добирался до
заветного угла в кухне, где жила мышка-принцесса. Тут мы встречались,
разговаривали, устраивали пир, в общем, совсем не плохо проводили время в играх
друг с другом.
Для полного счастья мне не терпелось погладить прекрасную
избранницу. И я придумал хитрость: поставил на спичку картонку из-под обуви,
под картонкой разложил вкусненькое, и мышка-принцесса, уронив спичку, оказалось
в плену. Сердце мое сладостно замерло от осуществленной мечты. Но, увы, взять в
руки плененную принцессу я не смог. Едва я приподнял краешек картонки,
принцесса тут же серой стрелкой устремилась к норе. Как в сказке: когда слишком
многого хочешь, потеряешь то, что имел. С тех пор принцесса ко мне не выходила,
я видел ее только издали, она высовывала из дырочки головку и смотрела на меня
печальными бусинками глаз.
И вот что странно: в самое это время трогательных моих отношений с
принцессой-мышкой, какой-то бес жестокости вселился в меня, когда я оказывался
среди мальчишек во дворе нашего дома. Мы могли забить камнями обнаруженную на
помойке крысу...
Что это - обязательная дань первобытной дикости, через которую в
своем развитии проходит человек, повторяя исторический путь человечества от
пещерного существования к цивилизации? Или в душе каждого от рождения заложено
не спадающее противоборство злого и доброго, любви и беспощадности, и в
каких-то обстоятельствах то одно, то другое выплескивается, осветляя, или
очерняя душу?
Есть, наверное, во всем этом и что-то другое, что до известной
поры не уясняется отроческим сознанием. В близкой от тех лет моей юности, когда
снова мы вернулись на Урал, и в известном всему миру Ильменском заповеднике я
попал в мир работников науки, опекающий меня молодой зоолог, поручил мне
исследовать цикл размножения мышей, и вот, я, еще недавно проливавший слезы над
мышонком, без жалости ловил в капканчики десятки полевок и кутор, препарировал
их, тщательно все записывал и составлял таблицы...
Я не забыл, вспоминал свою мышку-принцессу, и в то же время
радовался, находя в капкане сжатую железными челюстями полевку, с радостью нес
ее домой... И эта жестокость по отношению к сородичам моей принцессы ничуть не
расстраивали меня, - я делал нужное науке дело.
Все это как-то странно уживалось с другим моим отношением к живым
существам, обитающим вокруг: я был жалостлив, трогательно бережлив и к птицам,
поющим у нашего дома, и зеленоглазому коту Пупсику, доставшемуся нам от прежних
хозяев, к остроухой дворняжке с доброй мордашкой и преданным взглядом,
прижившейся к нашей семье. В лесу я заботливо обходил паука-крестовика,
стараясь не порвать раскинутые меж кустов тенета, карабкался на деревья, чтобы
подсадить в гнездо выпавшего птенца, высвобождая из лесного сора цветок
пролески, чтобы он мог вольно распуститься в лучике солнца.
Как все эти противоположности сожительствовали в одной юной моей
душе? Я не чувствовал, что столь непохожие поступки раздваивают меня. Мне казалось,
я оставался самим собой, с тем же добрым отношением к миру. И если я делал
что-то, что не делал прежде, то мое поведение оправдывалось вполне уже
уясненным понятием "надо".
"Надо" поймать мышь, и не одну, "надо"
вспороть ей животик... Все это надо для того, чтобы знать цикл размножения
грызунов, чтобы... Так входило в мое сознание могущественнейшее и тревожное
понятие "надо".
Очень скоро, в начавшейся Отечественной войне, это «надо» повлечет
меня на фронт, поднимать будет в смертную атаку, заставит меня стрелять в
людей-врагов, защищая себя и Родину.
Не раз повернет оно мою судьбу и потом, порой в счастливую, порой
и в несчастливую сторону. Но об этом раздумья впереди. Противоборство различных
начал в отроческой моей душонке только-только начиналось, и начиналось оно
здесь, в малолюдном лесном поселке под Москвой.
*
*
*

В один из дней,
когда я вписывал в тетрадь примеры на сложение-вычитание, вошел отец. Только
что он вернулся из Москвы и вступил в комнату с некоторой даже
торжественностью. Я смотрел удивленно: не часто я видел вечно озабоченного отца
в добром расположении духа да ещё вот с такой загадочной улыбкой на обычно
сжатых в сосредоточенности губах.
Загадка разрешилась тут же - отец во всех своих действиях предпочитал
прямоту, смаковать даже приготовленные сюрпризы он просто не умел.
Он снял с плеча длинноствольное ружье, с какой-то трогательной
неловкостью передал в мои затрепетавшие от восторга руки. Я готов был встать
перед отцом на колени, но отец смущенно кашлянул, достал из кармана платок,
долго протирал очки, надел на близорукие глаза, посмотрел на меня как бы даже
вопросительно: что мол, тут говорить? Ружье - тебе. А дальше уж!..
«А дальше уж соображай сам», - понял я недосказанное им. Вышел
отец все-таки заметно растроганный моим преданным взглядом. Я слышал, как в
другой комнате он неумело утешал маму, расстроенную совсем не детским подарком.
Ружье похоже было на винтовку, с винтовочным затвором, который с
благоговейным наслаждением я открывал, закрывал, целился в сучки на стенах, с
замиранием нажимал на спусковой крючок, ловя настороженным слухом волнующий,
щелк тугой пружины. Не рассказать, как услаждался я видением будущих охотничьих
подвигов, своей меткостью, удачливостью, - картины сменяли одна, другую,
проплывали в податливом на мечты воображении. Но чем дальше я забавлялся с
ружьем дома, тем неотвратимее тянуло меня выйти с ружьем в лес, в обиталище
птиц и зверей. Ни пороха, ни дроби, конечно, у меня не было, новенькие
блестящие латунные гильзы в нетерпеливых моих пальцах были не более, как
красивыми игрушками. Выискать нужное мне в малолюдном поселке не представлялось
возможным.
Но в жизни бывает: ловец есть, зверь - набежит! В дальнем от нас
доме появилась новая семья, и на старой, близкой к домам вырубке зазвучали
выстрелы! Два уже взрослых брата из этой семьи оказались охотниками. Ну, не
теми, настоящими охотниками, с которыми посчастливилось мне сходиться в будущей
моей жизни. Но все же, имели они ружье, правда, одно на двоих, но ружье хорошее,
двуствольное, порох и дробь они не жалели и, когда приезжали на выходные дни,
шли на вырубку в сопровождении великолепного черного доберман-пинчера, которого
опасливо сторонились даже взрослые, и там с насмешливыми возгласами подкидывали
кверху и расстреливали в воздухе пустые бутылки. Мы сумели оказаться нужными в
их забавах, - когда приезжал только один из братьев, мы, с готовностью кидали
из кустов вверх бутылки ему под выстрел и старательно радовались, когда
бутылка, не успев упасть, брызгала осколками от хлестнувшей дроби.
Один из братьев, в конце-концов, снизошел. Мы оказались однажды в
его комнате за волшебным столом, где он заряжал патроны. Уходил, я домой, боясь
неосторожным движением уронить свое счастье: карман курточки приятно тяжелили
два моих - моих! - патрона, с порохом, дробью, со вставленными капсюлями, два
готовых к выстрелу патрона! Мне оставалось только вставить патрон в ружье,
закрыть затвор и...
Не помню, как ноги донесли меня до дому: пальцами то и дело я придавливал в кармане патроны, страшась, что они могут исчезнуть. Ночь я провел в полубреду, ворочаясь, несчетно раз просыпаясь. Утром, едва дождавшись, когда уйдут на электричку отец и мама, я вышел с ружьем. В лес я шел один. Я уже знал, как общий азарт и суета смущают мою волю, хотел быть самим собой, я шел в лес открывать свою, мне еще неведомую страницу бытия.
Долго, стараясь быть бесшумным, бродил я по таежным еловым
урочищам, выходил на светлые косогоры, крался под трепетной зеленью березовых
рощ, но нигде не встретил ни угрюмого волка, ни хотя бы на худой конец,
пышнохвостой лисы. Вместе с усталостью все ощутимее охватывала меня обида на
беззверушачий лес, на свою невезучесть, мне не терпелось поднять ружье,
надавить на спуск, услышать звук первого в своей жизни выстрела. Но разве мог я
истратить патрон и не почувствовать радость от падающей к моим ногам добычи? И
тогда я поднял глаза вверх...
На подсыхающей рыжеватой елке, на сквозящей ее вершинке я увидел
живую задумчивую птаху. О чем думала она, кого ждала, может, просто грелась в
солнечном тепле последних августовских дней, об этом со слезами на глазах я
думал чуть позже, когда терзалась раскаянием моя душа. Если бы мог - я подумать
прежде той минуты, когда мое ружье опалило воздух огнем и дымом, когда вместе с
посыпавшимся с вершинки сором, падала, цепляясь перышками за ветки, только что
живая, грустно-задумчивая птаха!..
Я держал в своих ладонях почти невесомое, еще теплое птичье тельце
и с ужасом сознавал, что мои руки похожи на те чужие руки с белыми пухлыми
дрожащими пальцами, на которых, запрокинув голову, лежал убитый пулей зяблик!
В земле, под елкой, я выцарапал ямку, плохо видя от слез гадкие
свои руки, захоронил молчаливую птаху, раскаянно воткнув в бугорок кончик
еловой лапки.
Немало жестокостей чужих и своих предстояло мне пережить в
будущей, не всегда по моей воле складывающейся жизни. Но было это уже за пределами
детства и отрочества,
Здесь же, в отроческом мире, в мире уже близкой моей юности, этот,
обернувшийся раскаяньем день, как бы накрепко спеленал дикость еще бывшую во
мне, ружье в моих руках больше ни разу не выстрелило во что-то живое, просто
так, ради прихоти или по недоброму любопытству.
*
*
*

Взрослые, все-таки, странные люди! Все у них не так, как в нашем,
ребячьем, простом и открытом мире. И вздохи-разговоры, и вежливые улыбки, когда
видно же! - улыбаться не хочется, и встречи-поклоны без радости в глазах и без
добрых слов после. Зачем им всё это? Зачем говорить не то, что думаешь и,
уединяясь, делать то, на что никогда бы не решился при людях?
Взрослых мы судили, исходя из представлений свойственных
отроческим годам. И молчаливый наш суд был беспощаден. Но порой, и мы терялись,
все видя и ничего не понимая. И мучаясь в догадках о странном поведении
взрослых, медленно взрослели сами.
Вместе с установившимся июньским теплом в обычно безлюдном нашем
лесу стали появляться парочки. По утрам, особенно в выходные дни, выпархивали
они из электричек, в каком-то нетерпеливом оживлении расходились по лесу,
выбирая места поукромнее. К вечеру утомленно, с полуулыбками, сходились на
платформе, уезжали в Москву.
Нам не нравились столичные гости, они нарушали девственность леса,
который мы считали своим.
Однажды Колька-Дролька, прибежал возбужденный:
- Айда, скорей! Там в
лесу, эти самые... Что делают! Что делают!..
Мы с Сашкой-Головашкой рванули за ним в лес. Колька-Дролька
известными ему окружными путями, осторожно подвел нас к небольшой полянке,
высветленной солнцем. Среди невысоких молодых елочек мы притаились.
На полянке, на разостланном байковом одеяле уединенно
расположилась парочка. Мужик, с большим горбатым носом, в полосатых трусиках и
в соломенной шляпе, сидел, скрестив под собой волосатые ноги, тер свою коленку,
будто она у него болела.
На другом краю одеяла, полулежа, на боку девица, подперев рукой
голову с коротко подстриженными волосами. Девица тоже была в трусиках и в белом
лифчике, - почти голая!- и никакого смущения не заметно было на красивеньком
круглом ее личике.
Мужик, потирая коленку, что-то говорил, девица, щурясь от
светившего на нее солнца, поигрывала у губ ромашкой, сорванной, конечно же, в
нашем лесу! Время от времени она прикусывала лепестки, отрывала их зубами,
выплевывала. Казалось, она совсем не слушала, что говорит ей горбоносый мужик.
На газете между ними стояла бутылка вина, вокруг нее краснела,
белела, желтела какая-то, наверное, вкусная еда.
Мужику, видно, надоело щупать свою коленку, он взбодрил себя,
прокашлялся, да так громко, что эхом отозвался лес, дотянулся до бутылки,
набулькал вино в стаканы, один подал девице, девица с какой-то деланной ленцой
приняла. Мужик звякнул стаканом о стакан, опрокинул в рот все вино сразу,
девица долго тянула вино маленькими глоточками, при этом щурилась и как-то странно
улыбалась. Мужик, вроде бы уже набрался храбрости, остатки вина вылил себе в
стакан, швырнул бутылку в траву, стал угощать девицу, подавая ей то один
кусочек, то другой, девица охотно принимала, ела, а мужик все кормил ее и
кормил.
Я услышал, как Сашка-Головашка сглотнул слюну, завистливо
вздохнул. Я уже подумал: и чего это мы стоим-смотрим, как другие едят? Будто
других дел у нас нет!
Но тут мужик повел себя как-то не по-человечески. Газету со всей
снедью он нетерпеливо стянул с одеяла на траву, скинул с головы шляпу, показав
на затылке круглую, как тюбетейка, плешь. Девицу он охватил, как хватают мяч -
двумя руками, сдернул с ее плеч лифчик, отшвырнул, как будто он ему мешал.
Девица вместо того, чтобы закричать, вертелась в грубых его руках и громко хихикала,
будто ее щекотали. Вдруг она повернулась. Мы увидели грудь, голую женскую грудь
с бесстыдным темным пятном и пупырышком.
Мужик, как хряк у корыта, заурчал, раскрыл рот, и ухватил зубами
беззащитную грудь.
Такого издевательства выдержать мы не могли. Я и Сашка-Головашка
заорали враз благим матом, Колька-Дролька пронзительно, до звона в ушах,
свистнул, мужика, словно пружиной отбросило от девицы. Он схватил с газеты нож,
свирепо тараща глаза, вертел головой, не видя куда броситься.
Мы рванули из елок врассыпную, долго слышали за собой треск
сучьев, злое, тяжелое дыхание мужика. Да разве поймаешь нас в нашем лесу?!
Собрались на вырубке, Колька, еще задыхаясь от бега, проговорил:
- Вот, гады, что делают...
Сашка-Головашка добавил обиженно:
- Сами жрут, а нам пустые
бутылки!
Я еще не мог прийти в себя от увиденного. Все, что произошло там,
на поляне, невозможно было постичь нашим умом. В лесу совершалось что-то
грязное, страшное, о чем стыдно даже молчать! Надо было что-то делать, надо
было как-то помешать тому, что позволяли себе эти бесстыжие люди.
Колька-Дролька сказал:
- Знаешь сколько их в
лесу! И все такие...
- Тогда, вот что, - все
еще дрожа от негодования, сказал я. - Давай не прятаться. Пойдем по лесу
открыто, таким вот, боевым отрядом. Будем пугать их, как воробьев!
О, наивность детства! Наверное, была простительна она. Ведь мы,
действительно, негодовали, все, понимая по-своему, смотрели с высоты первых
прожитых десяти лет!
За дело мы взялись с размахом. Со всей возможной решительностью
выходили в лес, стараясь переполохать и прогнать все, что мешало чистоте нашей
жизни. Среди сосен и берез мы шествовали с видом внушительным. Впереди
Колька-Дролька с пионерским горном, за ним я, с барабаном на животе (горн и
барабан я привез с собой из Хабаровска), за мной Сашка-Головашка с
прохудившейся кастрюлей и тяжелой поварешкой в руках. Колька-Дролька, раздувая
щеки, отчаянно дул в трубу, я взбивал дробь палочками по туго натянутой коже
барабана, Сашка впопад и не впопад лупил по кастрюле с таким азартом и звяком,
что будь в нашем поселке пожарные, наверное, примчались бы спасать лес от огня!
Шум производили мы великий. И парочки, как грибы, разбросанные по
лесу, встречали нас по-разному. Одни, завидя нас, отстранялись друг от друга,
молча и хмуро ждали, когда мы, трубя, гремя и барабаня, пройдем. Другие грозили
кулаками, или отгоняли угрожающими криками. Были и такие, из молодых, красивых,
которые встречали наш очистительный отряд с веселым любопытством. Ничуть не
стесняясь, они так и сидели, обнявшись, смеялись, принимая нас за артистов, и
даже одаривали конфетами. Мы смущенно переглядывались, без прежней уверенности
отправлялись дальше, оставляя молодых наедине.
Одну, особенно не понравившуюся нам пару, мы все-таки выжили.
Какой-то по нашим понятиям старикашка с красными щеками и бородкой клинышком,
целовавший противную тетку с жирным животом, в конце-концов не выдержал нашего
неотступного гомона, в возмущении вскочил, вскинул руки к небу, возопил
дребезжащим голосом:
- Нет, это невозможно! Это
выше моих сил!
Собрав пожитки, сердито переговариваясь, они ушли от нас,
вздрагивая спинами, но не на станцию, а дальше в лес!
Окончились наши лесные шествия неожиданно. Наткнулись мы на
какую-то странную пару, лежащую под сосной. Руки девицы были крепко сцеплены на
шее парня, и лица ее мы не видели, только стриженый затылок парня качался за
толстым сосновым стволом. Наше шумное появление никак на них не подействовало,
они не разжались, и в крепком их объятии было что-то такое, от чего мы враз
замолкли. В тишине услышали, что девица стонет.
- Чего это она? -
испуганно прошептал Сашка-Головашка, на что Колька-Дролька задумчиво, каким-то
поникшим голосом ответил:
- Пошли-ка отсюда...
Мы ушли со смешанным чувством подавленности и растерянности. Шли
молча, почти бежали, торопясь уйти как можно дальше от той нечистоты, которую
отроческим целомудрием мы все-таки ощутили. Когда подошли к домам, Колька
сказал угрюмо:
- Нечего по лесу шастать.
Такое дело пушкой не остановишь!..
Мы молча согласились.
*
*
*

Подумать не мог, что Колька-Дролька, мой друг, с которым мы делили
каждую булку и конфету, вдруг станет моим врагом! Не просто воображаемым
противником - врагом настоящим, ненавистным, с которым мы сойдемся в
непримиримом кулачном бою!
После наших наивных стараний выжить из леса приезжих, очень даже
нечистых по нашему разумению парочек, Колька-Дролька впал в молчаливую
задумчивость.
Однажды, когда мы, все трое, устроились на скамеечке перед
калиткой, обдумывая, как и чем заняться в предстоящий выходной, Колька-Дролька,
заметив, будто нехотя выходящую из леса еще одну незнакомую нам парочку, с
каким-то тоскливым озлоблением произнес:
- Б... гады. В лесу, в
домах - везде!
Грязное, вслух произнесенное слово оглушило.
- Ну, ты не очень-то, -
сказал я, краснея.
- Что не очень-то? -
Дролька насмешливо оглядывал меня, - В любом доме, где мужик и баба, то же что
в лесу... Только под одеялом. Все друг друга облапывают. Все! - Дролька
помолчал, добавил с непонятной мстительностью:
- Твой отец с матерью -
тоже...
- Неправда! - вскричал я,
вскакивая. - У нас нет, нет!
Дролька безжалостно засопел, сказал чужими словами:
- Глядеть не научился. Робёнок ищо!..
Чистая моя вера вся возмутилась от грязной Колькиной лжи. Я шагнул
к Дрольке, схватил за рубашку, скрутил, как будто хотел задушить его.
- Говори, что врешь!
Говори!..
Дролька злым ударом отбросил мою руку.
- Стыкнуться
хочешь?! - спросил с угрозой.
Я молча кивнул, направился к лесу.
Колька-Дролька и Сашка-Головашка с какой-то хищной торопливостью
последовали за мной.
Не знаю, откуда пришел этот варварский обычай, но в любой
мальчишеской среде такой обычай существовал: если ты не можешь доказать свою
правоту словом, можешь, если ты не трус, доказать в кулачном поединке. Было два
варианта на выбор дерущихся: до первой слезы, или, более жестокий, до первой
крови. Соответственно определялся победитель, и правота закреплялась за ним.
Колька-Дролька спросил:
- До крови, или до слезы?
Я был за более человечный поединок: до первой слезы.
- Договорились, - сказал
Дролька, и стал угрожающе засучивать рукава рубахи. Я посмотрел на свою
рубашку, рассеянно подумал: засучивай рукава, не засучивай, правда все равно
останется правдой.
Дролька был выше меня и жилистый, как свилеватая черемуха: я знал,
что он сильнее меня. Но правда была на моей стороне, и я стоял в ожидании,
опустив руки, сжав кулаки.
Судьей был Сашка-Головашка, мы оба согласились на его судейство.
Головашка, утвердившись на старом пеньке, крикнул:
- Давай! Начинай!..
Дролька, играя кулаками, пошел на меня. Я помнил, что мне надо
драться, и когда он оказался передо мной, я с силой выбросил прямо от груди
руку. Не знаю, как получилось, но удар пришелся по носу и толчок, видимо, был
сильный. Дролька пошатнулся, осел на землю. С ужасом я смотрел, как из носа на
его губы и подбородок течет кровь, полой рубахи Колька зажал нос, глядел на
меня сухими злыми глазами. Кровь он остановил, поднялся, утираясь, и вдруг
молча, нагнув голову и молотя перед собой кулаками, быком двинулся на меня. Я
растерялся, я не знал, что мне делать и пятился перед молотящими воздух
взмахами его кулаков, Ноги мои зацепились за корни, я упал от бессилия, от
обиды, потекли слезы.
- Все!.. Победа! -
закричал Головашка. Я и сам видел, что победил Дролька. Раз победил, значит,
правда на его стороне. Значит... значит, правда, и то страшное, о чем говорил
он. Примириться со своим поражением я мог, как примирился, в конце-концов и с
Колькой. Я не мог примириться с тем, что сказал он о моем отце и матери.
Я знал, что не успокоюсь, пока не узнаю всю правду. И когда узнаю,
драться буду с Дролькой уже до крови!
Смотреть на маму я избегал, а если смотрел, то с таким
страдальческим ожиданием, что мама встревожена осведомлялась:
- Что с тобой, Вовчик?..
Я отводил глаза, уходил к себе в комнату, сидел в одиночестве,
думал. По вечерам, когда мама укладывала меня в постель, и, пожелав
"спокойной ночи", уходила к отцу в другую, проходную, комнату, я со
страхом следил, как старательно прикрывает она за собой дверь. Я прислушивался
к приглушенному их разговору, особенно к молчанию, когда оно наступало там, в
другой комнате. Страшные догадки терзали, не давали спать. Наконец, я решился.
Еще с вечера мне удалось пожаловаться на желудок, но так, чтобы мама не слишком
встревожилась. Слегка морщась, пряча глаза, я сказал, как бы, между прочим:
- Что-то все в уборную
тянет...
Мама потрогала мою голову, определяя, нет ли у меня температуры,
накормила рисовой кашей с черничным киселем, раньше обычного уложила в постель.
Я лежал, вслушивался в голоса, ловил каждый звук там, за стенкой, и, когда
уловил по скрипнувшей кровати, что отец и мама легли, с замиранием сердца
встал, выждал сколько-то минут, распахнул дверь в светлую от летней зари
комнату, и быстро прошлепал босыми ногами к уборной. Как ни показывал я, что у
меня прихватило живот, что я тороплюсь, взгляд мой подготовлено метнулся в
угол, где стояла кровать. Я увидел сконфуженное лицо отца, стыдливо
отвернувшуюся к стене маму. Я все понял.
Не помню, как вернулся я обратно в свою постель. Лицо мое горело,
плечи дрожали, я молча плакал от стыда и отчаяния.
Утром, когда отец уехал на работу, а мама, вымыв посуду, села за
стол что-то вписывала в свою тетрадочку, я остановился перед ней. Дрожащий мой
голос выговаривал прежде невозможные, убивающие маму слова, но я уже не мог
остановиться.
- Ты всегда была чистой,
самой чистой, самой справедливой, любимой, святой, - а ты... ты... ты... - я
захлебывался в словах, но продолжал безжалостно выкрикивать:
- Как только не стыдно...
Я так в тебя верил... так верил ... верил...
Карандаш застыл в маминой руке, побелел ее тонкий красивый нос, от
невыносимой боли она прикусила губу, закрыла глаза.
Все это я видел, но потрясение мое было слишком велико, оно делало
меня бесчувственным.
Мама медленно поднялась, какой-то неуверенной походкой, как ходят
слепые, пошла из комнаты, я слышал, как тихо прикрылась наружная дверь.
Я остался один. Что-то похожее на страх и раскаянье шевельнулось
во мне. Я даже рванулся побежать вслед, вернуть маму, но упрямое сознание своей
правоты остановило меня.
- Ну, и пусть, пусть, -
твердил я, стараясь заглушить в себе жалость и страх. Всегда, когда
наваливалось на меня, что-то трудно выносимое я уходил в лес. Без людей, среди
молчаливых, мне казалось, все понимающих сосен и елей, приходило успокоение, из
леса я возвращался обычно добрым, всепрощающим. И на этот раз, повторяя про
себя: "Ну и пусть... пусть...", - я побрел в спасительный лес. Бродил
долго, стараясь затеряться в лесной глухомани. Но гудение электричек слышал, и
про себя просчитывал, на какой из них возвратится отец.
Домой пришел, когда бледные летние звезды уже проглядывали в небе.
Маму я увидел за столом, она сидела, подпирая опущенную голову обеими руками,
прекрасные густые ее волосы спадали ей на лоб, почти закрывали глаза. Отец был
тут же, нахмуренно ходил между столом и кроватью, видно, ждал, когда я вернусь.
Сердце мое екнуло. "Сейчас начнется!", - тоскливо подумал я, и
напрягся, готовый отстаивать свою правду.
Отец молча, внимательно смотрел на меня. Я ждал, что сейчас он
возьмется за ремень, как когда-то на Сиверской, под Ленинградом, когда,
сцепившись с коварным Юзиком, я завопил на всю улицу непотребные грязные
ругательства. Но отец угрожающих движений не делал. Угрюмо наблюдая его, я видел,
что он сам в затруднении, он не находил подобающих случаю слов.
Так, какое-то время стояли мы друг против друга в настороженном
молчании. Отец снял, снова надел очка, подошел к маме, положил руку на
склоненную ее голову, и сказал не мне, а маме слова, которые сделали меня сразу
старше, по крайней мере, на шесть лет. Он сказал:
- Вырастет - поймет...
Вспоминаю, думаю, что было бы, если бы в то время отцу не хватило
мудрости так житейски просто разрешить одну из мучительнейших трагедий моего
отрочества? Все могло бы быть. Я мог замкнуться в себе, мог бы разлюбить отца и
мать, мог бы на всю жизнь остаться духовным сиротой.
Будь благословенна мудрость отца.
*
*
*

В соседний дом, на втором этаже, вселилась новая семья, и прочный
мальчишеский мир пошатнулся, - мы увидели перед крыльцом дома девчонку.
Сугробища в ту зиму намело чуть не до половины деревьев, снежные
горы высились во дворах. И с такой вот горы вышла покататься на лыжах еще
незнакомая нам девочка.
Особой смелости в ней мы не заметили, похоже, ноги у нее дрожали,
когда катилась она с горки. Но упрямо, с каким-то вызовом, девчонка снова лезла
на сугроб, и, кинув сердитый взгляд на нас, сидящих в отдалении на перилах
своего крыльца, скатывалась по промятой уже лыжне, смешно размахивая палками.
Взбираясь в очередной раз на сугроб, она не удержалась,
по-девчоночьи ойкнув, упала. Белая шапка слетела с ее головы, покатилась
колесом, и мы с Колькой-Дролькой, в каком-то ослепившем нас изумлении ахнули:
волосы у девчонки были рыжие-прерыжие!
Сашка-Головашка, видно по младости, не разделил наше
подозрительное изумление. Завидуя чужим лыжам, фыркнул:
- Тоже мне, финти-минти! Сперва бы ходить научилась!..
Мы с Колькой-Дролькой дипломатично промолчали, девчонка поднялась,
по-медвежьи неуклюжая в пухлой шубке, сходила за шапкой. Не успела насунуть
шапку на рыжие свои волосы, как появилась на крыльце женщина в накинутом на
голову и плечи пуховом платке.
- Лора! Сейчас же домой! -
строго крикнула женщина. Мы сразу догадались, что эта женщина - её мать,
Так мы узнали, что рыжую девчонку зовут Лора. Что-то необычное,
ласкающее услышалось в самом звуке девчоночьего имени: Лора - Ларочка -
Ларисочка. И мы с Колькой-Дролькой, не глядя друг на друга, оба почувствовали:
спокойная наша жизнь кончилась. Отныне вольные игры-забавы сменили направление
- соседский дом, где жила Лора, светил нам рыжим маячком.
В маленьком мире поселка, где на три дома трое мальчишек и одна-единственная
девчонка, друг друга не обойти.
В один из дней мы заговорили. Вблизи Лора оказалась крупной
девочкой с полными плечами и смешливым веснущатым носом. Особенно смущали
широкие ее губы, распахнутые равными половинками, будто прижатые к стеклу.
Слушая наши заискивающие вопросы, она стояла перед нами, как
снежная королева, в белой с ушами шапке и белой шубке, полуприкрыв глаза рыжими
ресницами, чертила перед собой белым валенком полукруг, как бы решая, стоит ли
вообще одаривать нас, мальчишек, своим вниманием. Но вот она подняла ресницы,
глянула какими-то пестрыми, как яркие жучки на цветах, глазами, и мы с
облегчением, с радостью увидели, что глаза ее смеются!..
- Ну, и что же у вас тут
хорошего? - спросила Лора, с какой-то приятной ленцой растягивая слова.
Мы с Колькой-Дролькой оторопело переглянулись, дружно ответили:
- У нас все тут хорошее!..
Лора подняла коротенькие, тоже рыжие, брови, как-то неопределенно
улыбнулась:
- Ну, что ж, посмотрим, -
сказала она протяжно, все с той же своей девчоночьей ленцой, чем привела меня в
молчаливый восторг.
Очень скоро мы узнали, что отец Лоры - полярный летчик, что пока
он на Севере, но скоро приедет, что все они переберутся в столицу, у отца будет
важная должность и хорошая квартира.
Должность и квартира нас, разумеется, не интересовали, но то, что
отец Лоры - летчик, да еще полярный, сразило нас окончательно. На своем
мальчишеском триумвирате мы решили напридумывать что-нибудь такое
необыкновенное, что Лору удивило бы, потрясло, и она навсегда разделила бы с
нами наши игры-забавы.
В то время в столице появились в продаже литые из олова пугачи и
револьверы, стреляющие серными пробками. Звук выстрела был почти настоящий, и
пробка, штампованная из белой глины, летела шагов на пять и, если попадала в
руку или коленку, ударяла чувствительно. Между собой мы часто разыгрывали
настоящие сражения, выслеживая друг друга и возбуждаясь стрельбой, но вовлекать
в сражения Лору не решились, понадеялись пленить её воображение битвой уже
отгремевшей в снегах.
Как раз к выходному дню выпала богатая пороша. В тяжелых белых
шубах стояли сосны. В холодном свете желтого солнца сверкали чистые снега. В
усердии носились мы по заснеженной вырубке, составляя неотразимо-страшное
повествование о борьбе трех против трех с применением оружия и стрельбой на
поражение. Отпечатывались на снежной целине наши падающие тела, раскинутые
руки, сжимающие револьверы, вмятины от голов и даже носов. Глубокие тропы
пробороздили снега, по которым друзья-товарищи оттаскивали раненых в
спасительный лес.
Вокруг отпечатков поверженных тел оставались на снегу прочерки
пуль - меткие наши выстрелы глиняными пробками.
Общая картина получилась впечатляющей. При маломальском
воображении - а мы обладали им в избытке - можно было замереть от ужаса
прошедшей здесь битвы и восхититься мужеством тех, кто отвоевал у недругов этот
чистый солнечный день. Для того чтобы обострить всю картину борьбы, я не
поленился, сбегал домой, из маминой коробочки вытащил пузырек красной туши, и
там, где отпечатались тела и головы павших, мы щедро окрасили снег - у висков и
простреленных сердец, где по нашим понятиям они должны были быть.
Лору привели на вырубку в таинственном молчании. Еще раз, обозрев
снег, испещренный следами борьбы, я забыл про всегдашнюю свою стеснительность.
Вдохновенно я стал рассказывать о случившемся здесь противоборстве добрых и
злых, о том, как гремели здесь выстрелы, свистели пули, как падали в рукопашной
схватке и добрые и злые. Добрые спасали своих раненых, уволакивали их в лес,
злые стреляли, добрые кропили кровью чистые снега и солнце, едва не плача,
светило, не в силах согреть своими остывшими за зиму лучами - последние минуты
их жизни.
- Видишь, - говорил я
Лоре, стирая потный от возбуждения лоб.
- Видишь? - и показывал на отпечаток упавшего в снег тела с кровавым пятном на голове.— Здесь пуля задела висок. А здесь - попала прямо в сердце!
При слове «сердце», с которым связано было имя «ЛОРА», голос мой
дрогнул. Лора посмотрела на меня, как показалось мне, с любопытством, но губы
ее, распахнутые двумя широкими лепестками, покривилась, ей явно не нравилось
то, что было нашей гордостью и надеждой.
- Во-первых, - сказала
Лора, не своим каким-то назидательным голосом. - Если бы ваша пулька - она
нарочно сказала "пулька", а не пуля! - попала в сердце, то кровь
должна быть вот здесь, - она показала пальцем на отпечаток моего тела.
- Во-вторых, - она
оглядела снежное пространство, измятое вдоль и поперек нашими следами,
спросила:
- Это и есть ваше «самое
интересное»?..
И Колька-Дролька, еще не зная, что за этим последует, радостно
вздохнул:
- Да-да!..
Лора издала своим маленьким, присыпанным рыжими веснушками, носом
звук, выражающим презрение, сказала:
- Тогда устраивать вам
свои побоища придется без меня! – и добавила, вконец разрывая мое сердце:
- Да и вся ваша кровь -
простые чернила!..
Что мы знали тогда о девчонках, их странностях, капризах? Любая из
девчонок была для нас загадкой, потому, наверное, девчоночье превосходство
как-то само собой признавалось нами.
Лора преподнесла нам первый урок, и мы покорно приняли его.
Стояли мы вокруг Лоры, как в воду опущенные, ее это развеселило.
- Ладно, - сказала она, -
Пойдемте ко мне. Я покажу вам свои игры.
Самой интересной игрой оказался, как сказала она, «Японский
биллиард», - наклонно поставленная, разрисованная доска, закругленная вверху, с
множеством заборчиков из блестящих прочных гвоздиков и ловушек с гнездами.
Палочкой надо было вытолкнуть из узкого коридорчика тяжелый металлический
шарик. Шарик стремительно выкатывался по ободку вверх, натыкался на первый
гвоздик, отскакивал к другому, третьему, и, скатываясь под уклон, ударяясь с
приятным звоном о другие гвоздики и заборчики, попадал в какое-либо гнездышко с
цифрой, где значилось количество очков, или при неудаче, к великому огорчению
запустившего шарик, безрезультатно скатывался вниз.
Лора, конечно, знала, как толкнуть шарик и часто попадала в самое трудное, заманчивое гнездышко, набирая сразу полтыщи очков. Мы же все время оказывались в побежденных, но азарт наш от поражений только возрастал. Мы возбудились, в нетерпении вырывали друг у друга палочку, шумели, даже кричали, забыв, что мы в чужом доме.
В тот самый момент, когда особенно яростно мы заспорили из-за
хитрости Головашки, дверь в комнату, где мы играли, отворилась, мама Лоры
встала перед нами, оглядывая всю нашу компанию, тесно сидящую на полу с
красными возбужденными лицами.
Мы враз притихли, ожидая родительской угрозы.
- Во-первых, - сказала
Лорина мама отчетливо, как строгая учительница на уроке. - Во-первых, - повторила она, - в чужом доме
так не шумят. Во-вторых, - она смотрела на наши валенки и темные пятна на полу
от растаявшего снега, - чистоту надо уважать даже в чужой квартире!
Я видел, как веснушки на лице Лоры пропали в краске стыда, с
робкой мольбой она выкрикнула:
- Я все-все уберу, мама!..
Страдая за Лору я вскочил, торопясь отвести от Лоры материнский
гнев.
- Если у вас найдется
тряпка, я сейчас же подотру, - сказал я, в готовности протягивая руки. Я был
уверен, что мама Лоры тут же улыбнется и общее примирение состоится.
Но мой благородный порыв только осложнил положение. Мать Лоры
страдальчески приложила пальцы к виску, смерила меня от головы до валенок таким
неприязненным взглядом, что свет померк в моих глазах. Не сказав больше ни
слова, она ушла, хлопнув дверью.
Какое-то время мы сидели в молчании. Лора сердитыми руками
складывала шарики в биллиард. Нам дрожащим голосом сказала:
- От папки давно писем
нет. Вот она и...
Мы понимали, Лора старается оправдаться перед нами, но суд наш
мальчишеский был неумолим, мать Лоры мы нарекли «злюкой». Да и не похожа она
была на Лору: волосы совсем-совсем черные, будто прилепленные к голове, лицо
какое-то острое, худое, губы поджатые, и сама манера назидательно говорить: «во-первых»,
«во-вторых», вызывала ответное протестующее чувство. Хотя Лора порой тоже
говорила, как мать: «во-первых», «во-вторых», - в наших глазах после
случившегося она даже выиграла. Мы решили, что Лора - вовсе не в мать, что она
- вся в отца, что отец ее, полярный летчик, такой же рыжий, такой же
широколицый, такой же красивый - словом, настоящий человек!
Пока мы натягивали свои пальтишки у двери, снова появилась мать
Лоры, спросила, будто в удивлении:
- Ты куда это собралась?!
Лора уже накинувшая на плечи шубку, залепетала:
- Я, мамочка, только
провожу! Чуть-чуть...
Мать Лоры неприятно усмехнулась:
- Во-первых, - сказала
она, - обычно мальчики провожают девочек, а не наоборот. Во-вторых, в такую
темноту я просто тебя не отпущу!..
- Ну, мамочка! - лицо Лоры
снова запылало, гася рыжие веснушки вокруг носа.
- Никаких «ну»! - строго
сказала мать Лоры.
Я, всегда остро переживавший любую несправедливость, раскрыл,
было, рот, чтобы защитить право Лоры проводить нас, и почувствовал, как пальцы
Лоры, стоявшей рядом со мной, будто впились в мой бок, наверное, она просто
хотела заставить меня молчать. Но особенный, с каким-то вывертом ее щипок я
расценил по-своему. Ущипнув, Лора, как будто сказала:
- Пусть не пускает, я все
равно с тобой! И в восторге от боли, от неожиданно впившихся в меня острых
пальчиков Лоры, я возопил глупо:
- А мы тоже скоро переедем
в Москву!..
Мать Лоры как-то болезненно сдвинула брови, смотрела на меня
напряженным взглядом, как будто хотела о чем-то спросить, но мы уже оделись,
уже распахнули дверь, вывалились на площадку.
В суете Лора еще раз, ясно со значением ткнула меня в спину, и я в совершенном восторге понесся вслед за Колькой-Дролькой и Сашкой-Головашкой по лестнице вниз, перепрыгивая сразу через три ступеньки.
Японский биллиард завладел нами.
К себе Лора больше нас не звала, но тихонько приносила биллиард в
нашу или Колькину квартиру, и мы до изнеможения, забыв все другие игры,
сражались, соперничая в умении, просто в везении.
С какого-то дня я заметил, что Колька-Дролька ревниво следит за
каждым моим взглядом, словом, движением, если рядом играет, прогуливается или
просто сидит в комнате на стуле, болтая полными ногами, в коричневых чулках,
Лора. Для меня это было неприятным открытием, но чувство, похожее на ревность,
появилось и во мне.
Я уже не бегал к Кольке-Дрольке в каждую свободную минуту, стал
уединяться, надеясь встретить Лору без посторонних глаз. И мое одинокое
хождение вокруг ее дома завершилось невероятным событием. Я остолбенел, увидев
на боку сугроба, обращенного к окнам Лоры, крупно прочерченные слова:
- Коля + Лора = ?
Это было письмо-признание Дрольки!
Письмо кричало, требовало ответа! И мое болезненно-возбужденное воображение рванулось вперед - я уже видел на месте огромного знака вопроса, нацарапанное рукой Лоры, и убивающее меня слово «любовь».
Жар прихлынул к щекам, буквы, сам сугроб - все раздвоилось,
потонуло в тумане слез.
Дома мама встревожено щупала мой лоб, поила чаем с малиной, рано
уложила в постель. Знала бы она, если б только она знала, что со мной!
Три вечера подряд тайком пробирался я к сугробам, страшась увидеть
ответное слово Лоры, и с тревогой, с радостью смотрел на большой знак вопроса,
уже замохнатившийся инеем. Вопрос был, ответа не было.
Только в отчаянии от возможного чужого счастья я нацарапал на
соседнем сугробе свое послание:
- Вова + Лора = ?
Знак вопроса у меня получился какой-то дрожащий, жалкий, но
переделывать я не стал. «Пусть, - в мрачности подумал я. - Чему быть, то и
будет...».
К сугробу я не ходил два дня: страх оказаться отвергнутым, был
сильнее моих чувств. Лору я не видел даже издали. И Колька-Дролька, как сквозь
землю провалился!
Все это наводило на грустные мысли. Только на третий день,
возвратившись на электричке из школы, я, наконец, решился: прикрытый ранними
зимними сумерками, свернул к дому, где жила Лора. Пугливым зверьком пробирался
я к заветным сугробам и сразу увидел: Колькин отчаянный зов остался без ответа,
огромный знак вопроса, заново обведенный чьим-то неуверенным пальцем,
по-прежнему стыл на морозе. Безответной была и моя надпись - так мне
показалось, когда робко я бросил взгляд на второй сугроб. Я уже повернулся
брести домой, но в это время окно в доме засветилось, желтоватый квадрат лег на
сугроб, сломался на гребне, нижней своей половиной осветив написанные слова:
Вова + Лора =. После двух черточек я не увидел моего знака вопроса, снег в том
месте был заглажен, и что-то, что-то было там нацарапано!
Сердце заколотилось, с трудом переставляя ноги, подошел я к
сугробу. Там, где был знак вопроса, пальчиком меленько-меленько выведено было
слово «да»!..
Если бы зима вдруг превратилась в лето, если бы в холодных зимних
сумерках, среди которых я стоял, вдруг зашумели зеленые листья, я не испытал бы
большего восторга, чем от вида двух мелко-мелко нацарапанных буквочек! Я
опустился на колени, осторожно прижал буквочки ладошками, чтобы они не
разбежались, и так сидел, склонившись, согревал их теплом моего сердца. Когда
я, наконец, поднялся, я не увидел буквочек. Отчаянье снова кольнуло меня, но
лишь на мгновение: я уже знал, что Лора выбрала меня!
Я не бежал, я летел к своему дому, мысленно посылая в освященное окно Лоры самые ласковые слова, какие только знал!
Дом встретил меня пугающей суетой.
Среди комнаты стояла распахнутая мамина корзина, уже наполненная
одеждой, книгами, бельем. На кухне в дверь комнаты протискивался отец, неуклюже
охватив фанерный чемодан, с полуоторванной крышкой. Я застыл в недоумении, и
отец, оглянувшись, возбужденно бросил торопливые слова, вмиг опустошившие мою
ликующую душу.
- Собирай вещи. Завтра
уезжаем!..
Чуть не плача я крикнул:
- Куда?
Отец от моего отчаянного крика, будто застрял в дверях, удивленно
разглядывая меня сквозь запотевшие очки:
- Ты не знаешь? В
Москву!..
Так обошлась жизнь с первым трепетным моим чувством к рыжей
девочке Лоре.
Лору я больше не видел, даже взглядом не успел поблагодарить за
признание, сделавшее меня счастливым. Утром подошла к дому грузовая машина.
Отец и, как всегда расстроенная переездом, мама с помощью ловкого шофера
освободили комнаты от вещей, сделав квартиру непривычно пустой и гулкой. Маму
посадил в кабину, отец и я устроились в кузове, среди вещей, накрылись одним
одеялом.
Я высвободил дырочку, смотрел прощально из-под одеяла на окна
соседнего дома, за которыми чудилась мне рыжая головка.
Было холодно и печально, и когда машина тронулась и, тяжело
переваливаясь на неровностях, стала медленно отдаляться от домов к большой
дороге, сердце мое сделалось большим и горячим и живая ниточка, соединявшая мое
сердце с Лорой, тоскующей там, за окном комнаты, натянулась до звона и
оборвалась.
Снег, с утра медленно и раздумчиво падавший, вдруг заметался,
запестрел густой метелью, и обрушился на поселок, затуманивая, забеливая
дорогу, сосны, дома.
Отец обнял меня, плотно, с головой укрыл одеялом. Ждала нас новая
жизнь.
*
*
*
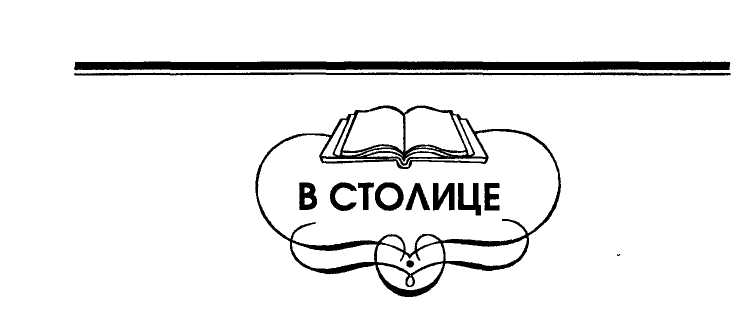
Москва, 1934 года еще дышала провинциальностью. Даже по главной
Тверской, вымощенной булыжником, улице ходили озабоченные и просто гуляющие
люди, не опасаясь ни звенящих трамваев, ни редких тогда автомобилей, сигналящих
в рожки с раздутыми грушами, у ветрового стекла.
Цокали по булыжнику старательные лошади, запряженные в телеги,
груженные товаром, и возчики, подергивая вожжами и покрикивая, шли рядом, зорко
проглядывая путь. Внутри тесных дворов время от времени появлялись мастеровые люди
с точильным станком на плече, кричали протяжно, чтоб слышно было и на верхних
этажах:
"Точить ножи - ножницы...!"
Или груженные скарбом жестянщики таким же протяжным голосом
оповещали: "Паять-лудить кастрюли, самовары!.."…
У ворот стражами стояли дворники в полотняных фартуках,
мужиковатые, крепкие, взросшие в крестьянском труде, хозяйственно мели метлами
тротуары, не позволяли ребятне излишне играть и азартиться во дворах.
На Тверском бульваре лотошники продавали сладких петушков на палочке и длинные, обернутые цветной бумагой леденцы, похожие на свечи.
Воробьи порхали стаями, голуби бродили по тротуарам у самых ног, и
вечерами по полутемным боковым дорожкам бульвара, среда лип и дубов
прогуливались влюбленные, по центральной аллее ходили парочками, шумные
компании взад - и вперед, с песнями и гармошкой.
Словом, и в столице было много похожего на то, что насмотрелись мы
во многих других городах и лесных поселках.
Квартиру отец получил на третьем этаже, в только что надстроенном,
на давно стоявшем здесь доме, в Гнездниковском переулке, выходящем одним концом
на Тверскую, другим под крутым коленным поворотом в Леонтьевский переулок, где
была 131 школа, в которой мне и пришлось познавать премудрости четвертого,
пятого и шестого класса.
Из окна большой комнаты нашей новой квартиры виден был квадратный,
в целый квартал, двор, с таинственным каменным зданием, затененным зеленью
деревьев, отгороженный от других домов и переулка высоким кирпичным забором,
накрытым сверху двухскатным железным коньком. Мне интересен был сам высокий
неприступный забор да еще с собственной крышей. Мама же, глядя с каким-то
болезненным любопытством, поверх забора на скрытое в зелени здание, как-то
пояснила мне с печальным вздохом:
- Там студия Мосфильма,
Вовчик...
Для меня слова мамы не прозвучали открытием, но печальный ее вздох
я все-таки запомнил и понял. В Питере, еще до того, как мама узнала моего отца,
она поступала, вместе с сестрой Мурой-Мусей, в только что открывшуюся студию
немого кино. Среди семейных фотографий я видел и долго рассматривал кинопробы,
в которых мама, меняя выражение лица, показывала различные душевные состояния:
хорошо получалось у нее трагическое отчаяние и плохо получалось простодушие и
веселость.
От окна мама отходила с печальным вздохом, начинала прибираться в
квартире, определяя каждой вещи свое постоянное место, а я полувопросительной
скороговоркой проговорив: "Пойду, погуляю?..", сбегал по лестнице,
прыгая через три ступени во двор, откуда доносились возбужденные голоса моих
сверстников. Там, среди них, непохожих друг на друга, предстояло мне вновь
постигать азы дружбы и вражды, взаимовыручки и обид, восторгов отроческой любви
и неутешную горечь разочарований, мгновенных рыцарских поступков и уязвляющих
до слез больших и малых несправедливостей всю совокупность того, чем везде и
всегда полон мальчишеско-девчоночий мир, во многом еще игровой мир, но со
своей, уже определившейся нравственностью.
Мы, каждый по-своему, врастали в плоть жизни, устанавливающийся в
столице и были радостно чувствительны к зримым ее переменам. А менялось в
столице многое, и менялось быстро. С Тверской убирались трамвайные пути, улица
гладко покрывалась блестящим асфальтом, выстилались асфальтовой скатеркой и
тротуары, на прибранных улицах появились красавцы-милиционеры в белых касках с
шишечками и белых перчатках. Милиционеры были столь необычны, что мы,
мальчишки, выстраивались на тротуаре, где-нибудь у перекрестка, восхищенно
смотрели, как они наблюдают, как вежливо и строго направляют уличную жизнь.
Милиционеры были удивительно предупредительны, они отдавали честь даже нам,
маленьким гражданам, когда мы в желании соприкоснуться со столь необычным для
нас явлением, набирались храбрости подойти и, будто бы потерявшись в
хитросплетениях улиц, спрашивали, как пройти в тот же Леонтьевский переулок,
который хорошо знали. И рослый красавец, пригнувшись к нам, маленьким вежливо и
подробно разъяснял, как лучше пройти в названное нами место.
Обустройство, чистота улиц, вносимый в городское многолюдье
порядок, как-то смягчали все еще чувствуемую суровость жизни, которой жила и
столица, после трудных общих голодных лет.
И наша семья жила стесненно, получая установленную норму продуктов
по карточкам. Очень даже запомнился мне один из дней, когда мама, с грустью
перебрав доставшееся ей при замужестве фамильное серебро: ложки, ножи,
подстаканник - унесла все в открывшийся на Тверской "Торгсин". Домой
она вернулась с бруском великолепного сливочного масла и обрезком сказочно
пахнущей колбасы. И в тот вечер был у нас праздник за нашим обеденным столом.
На бульварах и площадях, появились государственные лотошники,
торговавшие молочными продуктами. Мне почему-то больше другого запомнились
стаканчики простокваши, заклеенные сверху чистой бумажкой. Не могу забыть, как
однажды я остановился у памятника Пушкину, с любопытством наблюдая, как
напротив бойко распродает свой товар лотошница в белом фартуке. Среди других,
подошел к ней усталый мужчина в поношенном пиджаке, лицом очень худой, подал ей
гривенник, дрожащими руками принял стакан простокваши, и ложечку, тут же,
отшагнув в сторону, придавил ложкой бумажку, торопливо стал глотать белые
студенистые кусочки. Ел он жадно, мне казалось, он, утоляя голод, наслаждался,
этой холодной едой. Я с завистью смотрел, как жадно он ел. Не выдержав, побежал
домой, выпросил у мамы гривенник, купил очаровавший меня стаканчик, так же в
сторонке стал есть, но наслаждения не испытал; так и не доев, вернул стакан
удивленной лотошнице.
Настоящая радость случилась чуть позже, когда отменили в
приободрившейся стране, продовольственные карточки, вот уж была радость, общая
- у взрослых, и нас мальчишек, мама послала меня за хлебом в магазин, тогда
носивший еще прежнее название "Филипповский", вбежал я в магазин и
замер перед прилавком - голова закружилась от запаха сдобы, в глазах, радугой
запестрели батоны, кирпичики, халы, булочки, рожки - такого обилия хлеба - на
выбор!- мне еще не приходилось видеть.
С тех пор, все мы, как-то прочнее почувствовали, себя, -
почувствовали, что в столице жизнь определенно движется в нужную сторону.
*
*
*

- Пап, скажи, откуда мы
все - ты, мама, я? Оказались вдруг на земле. И живем?..
Отец посмотрел на меня с любопытством, потрогал по привычке очки,
оглядел в задумчивости свои седеющие, все еще красивые волосы, сказал, одобряя:
- Рад, что потянуло тебя к
прошлому. Мне все казалось, больше интересуют тебя дни сегодняшние...
То, что я запомнил, похоже было на легенду. Но в юном моем
сознании все выстроилось в стройный лад, и далекое прошлое, и отец и мама, и я,
стали как будто одним неразделимым ВРЕМЕНЕМ.
...Еще во времена Екатерины Великой между Питером и Москвой, на горах Валдайских, у большого озера, равного которому по чистоте вод, по красоте и богатству лесов его окружающих, на Руси не отыскать, от роду обосновались три брата-рыбака. Имя у каждого свое - Василий, Григорий, Иван, а в миру всех прозывали одинаково: братья Озеровы. Как-то в церкви, где они, как все тогда на Руси, молились да исповедались, поп-батюшка запутался в именах, осердился: эко, трое вас, все на одно лицо, все Озеровы! - осердился и изрек святую свою волю: отныне и вовек быть тебе, Василий, Ямщиковым, тебя, Григорий, по необузданности нрава твоего нарекаю Моревым, а ты, Иван, зваться будешь Кормиловым, поскольку рыбацкую твою удачливость, видать, сам Господь благословил.
Так воля батюшки-попа разделила наших прапрадедов не только по
фамилии, но и по судьбам. Григорий, нарекли которого Моревым, вознамерился
свое человеческое право отстоять, глаз положил на его невесту-красавицу
служилый дворянин.
Как ни бился Григорий свое сговоренное сберечь, - не вышло,
умыкнул невесту Петербургский щеголь. Осерчал Григорий на весь мир, от обиды,
от отчаяния великого затворил себя в монастырь, что тут же, на озере
Валдайском, на острове среди широких вод возведен был. Но человек могучей
страсти и силы и в монахах, будучи не смирялся. Слюбился по случаю с мирянкой
светлоокой. Через каменные монастырские стены перелезал, на голову рясу узлом
повязывал, плыл наперекор ночным волнам не одну версту до берега, чтоб только
свидеться, боль да страсть утолить. В одну из осенних ночей не доплыл:
Валдайское озеро судьбой и вечным покоем ему стало.
Василию, видно, поп-батюшка напророчил, Василий и впрямь в ямщики
попал. На кочевые пути-дороги вывела его судьба. Только гадать можно из времен
нынешних, сколько дум он передумал, сколько песен сложил под нескончаемый звон
поддужных Валдайских колокольчиков!..
Ну, а прапрадед Иван, что получил рыбацкую фамилию, при озере
остался. Рыбу промышлял, рыбацким промыслом кормился. Сын его Прокопий, твой
прадед, рассказывал в мягкой задумчивости отец, - хоть и не оставил совсем
рыбацкое дело, к охоте пристрастился, зверя крупного по лесам бил, но в неволю,
в егерскую службу к помещику не пошел, сам по себе прожил. А вот один из сынов
его, уже дед твой, Петр, с несколько изменившейся уже для благозвучия фамилий -
не Кормилов, а Корнилов, отошел от страстей природных, потянулся к жизни
разумной. На учителя выучился, уехал под Вологду, в Кириллов, учить-наставлять
тамошних малолеток. Там, среди редких в те времена девушек-учительниц, выглядел
твою бабушку, Анну Григорьевну. Семья сложилась, на свет явились я да брат
Иван, да сестры - Шура, Юля, Женя, Лида.
И пошло ветвиться родословное наше древо по городам и весям
российским. Широко разметнулось! И каждая веточка судьбой своей, неповторимой,
обозначилась... Как-нибудь выберем времечко, сядем, нарисуем сословный наш дуб.
- Дуб? Почему - дуб? -
живо вопросил я.
Отец засмеялся своей, занимавшей его мысли, терпеливо пояснял:
- Ты же корни свои ищешь?
Они идут не только через меня. Идут они и через маму. Мама выросла на своих
корнях. А прапрадед мамы носил Фамилию Дубовик. Что-то есть в этом любопытное,
не находишь?
Не сразу, но редкий по доверительности разговор отца распалял
воображение. Мысли мои устремились не столько к причудливой смене поколений,
сколько к самому себе, явившемуся в мир в случайностях долгого времени. Увидел
я себя отходящей от огромною дуба зеленой, с листьями веточкой, питали, живили
которую соки от могучих корней, когда-то в далеком-далеком прошлом вросших в
русскую землю. Сама же веточка трепетала в духе и в солнечном ветре вбирала в
себя радости сегодняшнего дня.
Каким был я сегодня, мне казалось, я знал. А вот чем напитал меня,
веточку-человека, родословный наш дуб - об этом стоит поразмыслить.
Прежде всего, от прапрадеда Ивана, на всю жизнь облюбовавшего для
себя озерную ширь и рыбацкий промысел, возросла во мне страсть к озерной и
речной воде, к лодкам, и удочкам. Это было для меня ясно. Такая же страсть жила
и в отце. Я же видел его осветленное лицо, дрожь в руках, когда удавалось ему в
прохладе вечереющего дня пристроиться у речного омутка, размотать удочку,
воззриться в трепетном ожидании на пробковый поплавок с торчащим гусиным
перышком! Вот только эта прапрадеда Ивана страсть жила в отце больше мечтами и
планами - редко, очень редко отрывался он от дел и добирался до близкой -
всего-то в полсотни шагов! – реки, с удочкой и баночкой червей! И когда однажды
я спросил:
- Что же, ты, папа. Только
говоришь, только мечтаешь о рыбалке, а сам все в работе, в работе?..
Как-то грустно и покорно развел он руками, сказал, вздохнув:
- Что поделаешь, сын!
Время пришло мир да человека переделывать. Недосуг с удочкой сидеть...
Я удовлетворился тем, что в отце все-таки жила страсть прапрадеда
Ивана, что ко мне она перешла не от кого-нибудь, а по родословной, через отца,
и рад был тому, что сам-то я мог отдаваться этой издревле бытующей страсти во
всю волюшку вольную!
Понятна мне стала и непоседливость, в которой жила наша семья. Если по Пушкину "охота к перемене мест - не многих добровольный крест", то отец, и я принадлежали к этим немногим. За прожитые мной четырнадцать лет мы объехали всю Россию от Финского залива до Дальневосточных берегов Тихого океана и нигде не удерживались дольше двух-трех лет. Раньше я думал, что судьбу семьи нашей определяет высокое папино начальство, но теперь догадывался о том, что если бы в отце не бурлили ямщицкие зовы прапрадеда Василия, мы благополучно могли бы обжить, если не на всю жизнь, то, уж, наверное, на полжизни и Москву, и Ленинград, тем более что мамины крестьянские корни, когда-то взращенные ее прапрадедам и дедами в Смоленской земле, тянули-звали ее к оседлости, к прочности, к бытовой устроенности семейной жизни.
Нас, однако, было двое, с горячей кровью ямщицких непосед, и мама
смирялась перед возбуждающей нас охотой к новым и новым переменам.
Сложнее было проглянуть в себе бунтарскую кровь прапрадеда
Григория, страсти которого не могли удержать даже каменные монастырские стены.
Те страсти, которыми он жил, во мне еще не кипели, Но то, что он восстал против
несправедливостей мира за свою любовь, за человеческое свое достоинство, было
по мне - с детства жило во мне обостренное чувство справедливости, я готов был
биться кулаками, зубами, яростным словом с любой несправедливостью, в каком бы
грозном обличии она не проступала. Теперь я знал, откуда во мне эта яростная
тяга к справедливости. И когда, уже после войны, родовая сила, растревожилась
во мне, и привела меня на Валдай, к тому озеру, откуда пошли мысленно видимые
из времен нынешних корни нашего рода, я долго сидел среди колышущихся вод на
дощатых, далеко уходящих от берега причальных мостках, вглядывался в туманные
очертания далекого острова, где был монастырь, в котором пытался смирить свой
бунтарский дух Григорий, смотрел сквозь прозрачность воды на придонные камни,
обросшие мхом, и чудились мне в их пятнистых переливах высматривающие меня
из-под воды насмешливые глаза прапрадеда Григория - будто пытал он мою душеньку
в способности стоять за себя и за справедливость.
Не сложно было отыскать в себе негасимый азарт прадеда Прокопа,
бившего зверя в Валдайских лесах, охотничья страсть все сильнее захватывала
меня, заставляя чуть ли не бредить по ночам в томительном ожидании свободного
от школы дня, когда еще в потемках, до рассвета, выкрадывался я с ружьем из
дома.
Хуже обстояло с дедом Петром, потянувшимся, как сказал отец, к
жизни разумной. Школьные занятия не очень-то влекли, вольные страсти
прапрадедов веселили меня куда больше, чем мудреные страницы тетрадей и книг. И
все же какую-то связь с дедом Петром я чувствовал, разумная жизнь не была уж
вовсе мне чужда. С чувством взрослеющего мальчика я старался отделить плохие
свои поступки от хороших, и не только отделить, пробуждающаяся во мне
разумность все больше обязывала меня стараться сегодня быть лучше, чем вчера, а
завтра - лучше, чем сегодня. Все это каким-то витиеватым ходом мысли, я
связывал с учительской судьбой деда Петра, обосновавшегося под дремотной тогда
Вологдой, где появился на свет, среди четырех своих сестер и брата Ивана, мой
папка, отец, тоже потянувшийся к жизни разумной и деятельной.
Как-то неясно виделись в мыслительном разглядывании родословного
дуба корни, питавшие другую половину ствола, ту половину, из которой взросла
мама. Там все накрепко связано было с землей, и извечным крестьянским трудом на
ней. Только дед мой, мамин отец, Василий Николаевич, отошел от тяжкого,
бедственного труда земледельца, выучился и перебрался в Питер, еще при
последнем царе Николае, умом и добросовестностью заслужил доверие крупного
Питерского домовладельца, стал при большом старинном доме в Гродненском
переулке управляющим.
После революции, передав дом в полном порядке объявившейся
советской власти, он оставлен был при уже общественном доме домоуправом,
осталась за ним и большая квартира на втором этаже, где жил он с бабушкой
Екатериной Васильевной и четырьмя своими дочерями, среди которых была и мама.
Все дочери обзавелись мужьями. В этой же квартире появился на свет и я.
Все это я знал по бабушкиным, по маминым рассказам. Но вот никак
не мог выискать в самом себе каких-то зримых качеств, которые вошли бы в меня
от родословных корней маминой половины. У мамы было завидное стоическое
терпение, такое же завидное трудолюбие даже в самых малых житейских
проявлениях, унаследованных от векового крестьянского долготерпения. Я же
совершенно не находил в себе, четырнадцатилетнем, ни терпения, ни трудолюбия -
я рвался туда, где охватывали пусть короткие, но радостные чувства: в леса, к
озерам, рекам, на стадион, где футбольный или волейбольный мяч зазывал и
увлекал юных и взрослых в азартные соревновательные игры, еще в Москве, чтобы
как-то пополнить семейный бюджет, мама поступила и закончила курсы чертежников,
обзавелась чертежной доской, готовальней, рейсшиной и по договорам выполняла
сложнейшие чертежи. Уже тогда потрясало мое отроческое сознание её способность
тщательнейшим образом вычерчивать разрезы двигателей машин, каких-то деталей,
десятки раз переделывать одно и то же, если случалось хотя бы малейшая
оплошность в линии или буквочке, подчищать, заглаживать каждую шероховатость на
ватмане, но когда она завершала чертеж, он достоин был любой, самой
представительной выставки! Я же молча, восхищаясь упорством, терпением,
добросовестностью мамы, сидел за своими школьными тетрадками, как на гвоздях -
за окнами я слышал голоса мальчишек и девчонок и торопился хоть как-нибудь
свести концы с концами в примерах по алгебре или в сочинении. Для меня мама
была, как остров разумности и трудолюбия среди бурлящих во мне чувственных
увлечений.
Я еще не знал, что через полтора десятка лет, когда я нащупаю,
определю свое человеческое назначение в жизни, когда признанием моим станет
творение словом художественных образов, я с благодарностью обнаружу в себе
мамины, идущие от крестьянских её корней, родовые качества: я буду годами,
десятилетиями сидеть за столом, над листами бумаги, с таким же упорством, с
такой же тщательностью, овеществляя возникающие в моем воображении образы,
выискивать и творить слова, десятки раз переиначивать фразу, чтобы держала она
видимый мной образ.
Жаль, что завершению первой серьезной моей работы увидеть маме уже
не удалось.
*
*
*

Посвящается Армине Симоновне
На лето мы выбирались из столичной духоты по Северной железной
дороге за Мытищи, поближе к обжитой округе Строителя. В самом Строителе дач не
было, мы обживали Тарасовку. Дачный домик с застекленной терраской, где отец
снял небольшую квадратную комнату о двух окнах, был близко к станции и за
полосой редких сосен и елей с утра и до поздних ночных часов слышались
завывания подходящих к платформе и отходивших электричек. Близость станции,
расписанное до минут и точно исполняемое движение поездов, давало возможность
отцу перед отъездом на работу в свой Наркомат перекусить что-то из
приготовленного мамой на неизменной в нашем быту, привезенной с собой керосинке,
проглядеть за кружкой чая, вчера прихваченную в вокзальном киоске газету и
выйти на платформу к нужной электричке. Отец был нетерпелив, тороплив, но время
умел рассчитывать.
Мы с мамой оставались вдвоем.
Мама как-то сразу расслаблялась, задумчиво разглядывала себя в
зеркале, поправляла волосы, воротничок кофточки, потом начинала прибираться, -
к чистоте, к порядку она была до болезненности чувствительна. Каждую вещь
протирала влажной тряпочкой, и не успокаивалась, если на постели обнаруживала
хотя бы малую складочку, или на уже чистом столе, покрытом клеенкой, вдруг
замечала хлебную крошку или пятнышко от чая. Успокаивалась мама лишь тогда,
когда все в комнате находило свое место, на столе в простенькой стеклянной вазе
синели лепестки колокольчиков, собранные накануне во время вечерней прогулки, и
сама комната, просветленная чистотой и порядком, освежалась через распахнутое
окна прохладой раннего утра и запахом сосен.
Чтобы не мешать маме, заниматься приборкой, я выходил на терраску,
общую для нас и для второй семьи, снимавшей в этом же доме другую комнату. Пока
в нерешенном для себя вопросе, чем заняться и куда пойти, я с интересом
рассматривал бившуюся о стекло красную в синих глазках-кружках бабочку, в
терраску тихо входила соседская Катенька, еще медлительно-сонная, но с уже
заплетенными в косички, удивительно светлыми, как солнечный воздух, волосами,
пушившимися над выпуклым ее лобиком, девочка была вся какая-то неземная, яркая,
как бабочка, земными были только ее косички с белыми бантиками, и я всегда с
трудом удерживая себя от дерзкого желания дотронуться да них.
Когда молча, она встала рядом со мной, задумчиво глядя на бившуюся
в стекло бабочку, я не выдержал, протянул руку, с мальчишеским любопытством
осторожно, как на кукле, подергал тугую влекущую меня косичку. Катенька
склонила на бок голову, посмотрела на меня вопросительно снизу вверх огромными,
как лужи после дождя васильковыми глазами, повела плечиком, будто отстраняясь,
сказала, растягивая слова и не выговаривая «л»:
- Ва-а-одя,
да ну тебя!..
Слова, голос ее, были так забавны, до восторга прелестны, что я
счастливо засмеялся. В желании продлить удовольствие, еще раз подергал косичку,
и снова услышал уже досадливо-капризный голосок:
- Ва-о-одя,
я же сказала - да ну тебя!.. Так стал я пленником прелестного, мне казалось,
неземного создания. Каждое утро, встречаясь с Катенькой в терраске, я, вместо
приветствия, протягивал руку, осторожно тянул к себе волшебную косичку с
бантом, и с молчаливым восторгом ловил небесно-голубой взгляд распахнутых глаз
и сам звук капризно-певучего ее голоса.
Как, почему, по какому чувственному отбору из миллионов мгновений
западает и хранится в памяти всю жизнь среди множества других, наверное, более
впечатляющих встреч, подобное случайное мгновение, кто ответит, кто объяснит?
Но вот эту девочку Катеньку, которую больше никогда не встретил я в своей
полной метаний, поисков, страданий, надежд и неудач жизни, память будто вложила
в драгоценную шкатулку и по какому-то, неясному мне поводу, вдруг дразняще
открывает, и снова я слышу чарующий меня капризно-протяжный голосок:
- Ва-о-одя,
да ну тебя!..
Думается мне теперь, не была ли в том первая замета ожидающей
меня, не прожитой еще жизни? Будто приглядывалось ко мне мое будущее, осторожно
пытало крохотным мимолетным пока испытанием.
Когда мы стояли, оба глядя на бившуюся в стекло бабочку, Катенька
вдруг приказала:
- Поймай ее!..
С покорностью я исполнил ее приказание, Катенька тут же
торопливыми шажочками прошла к себе в комнату, принесла коробочку, похоже,
из-под маминой пудры, вовнутрь коробочки запихала бабочку, старательно закрыла.
- Вот, когда бабочка
умрет, я сделаю из нее брошку. И приколю вот сюда, - пальчиком она придавила на
груди свой кружевной кармашек.
То, что сделала Катенька, разрушало мое представление о добром
отношении между мной и окружающим меня миром. Я насупился, сказал в готовности
отстоять справедливость!
- Отдай бабочку!
- А вот и нет! Бабочка
моя, - ответила Катенька, Руку с коробочкой она запрятала за спину, и выставила
ножку в белом носочке в синей туфельке, поставив туфельку на каблук.
В таком дразнящем полупоклоне она смотрела на меня, выжидая, на
что я решусь. Мне было в два раза больше лет, чем Катеньке, я мог вырвать из ее
рук коробочку, и освободить бабочку. Я еще мог остаться верным доброму своему
отношению с миром. Зов справедливости, уже слышимый мною, какое-то время
боролся с любопытствующим, дразнящим меня взглядом васильково-синих глаз, и
девчоночьи глаза победили: я возмущенно вздохнул и малодушно опустил голову.
Мне казалось, рядом со мной вздохнула разочарованно и будущая моя
жизнь. Ей уже дано было знать, что чувства мои будут часто проявлять себя
сильнее убеждений, что и в будущем предстояло мне не однажды склонять свою
голову перед взглядом девичьих глаз - уступившему однажды труднее выстоять
перед искушениями, идущими во след...
От Катеньки увел меня Васек, самый вездесущий из местных
мальчишек: свистнул, позвал, и с облегчением я ушел в другой мир.
Мир Васька составляли чужие грядки, с которых в наивной
убежденности во всеобщем равенстве он лакомился ягодой, морковкой, огурцами,
всегда манящая к себе Клязьма, извилисто текущая среди рощ и лугов, лесные
тропки, по которым можно было выйти на заросли малины. Но главным в этом
мальчишеском его мире был огромный, как аэродромное поле, стадион за железной
дорогой, и знаменитые бегуны братья Знаменские, чью им подаренную государством
двухэтажную дачу на крутом берегу Клязьмы выглядывающую из зелени покатой
железной крышей и темно-синим тесовым забором, Васек, возбужденно, с каким-то
замиранием в голосе, показал мне в первый же день знакомства.
Братья Знаменские в ту пору всеобщего увлечения спортом, были у
всех на слуху, ими гордились, им поклонялись. Они прославляли нашу страну,
страна прославляла их, И в том, что я оказался в том месте, где жили, купались,
тренировались они, наполнила и мою жизнь особым, не сразу понятым мной смыслом.
- К вечеру дернем на
стадион, - озабоченно сказал Васёк.- Соревнования будут. Говорят, и Серафим с
Георгием побегут!..
На стадион попал я впервые, и меня враз увлекла особая его жизнь,
где в открытости гаревых дорожек, на зеленеющем травой футбольном поле, на
площадках для волейбола и для прыжков, праздновала свой праздник сила,
ловкость, точность, быстрота, возвышающие показ человеческих возможностей.
Перед открытием соревнований, близ деревянного здания, крашеного в
тот же синий цвет, как и дача знаменитых спортсменов, внутри которого
размещались раздевалки, газетные и буфетные киоски, играл, собирал людей на
праздник спорта, небольшой духовой оркестр, лицом к сидящим оркестрантам стояла
строгая, как мужчина, женщина, туго обтянутая зеленой полувоенной курткой и
узкой юбкой. Прямые волосы спадала ей на уши, над острым носом отблескивали,
закрывая глаза, круглые очки. Двумя руками охватив медную трубу, вжимая
мундштук в губы, она издавала повелительные звуки, и сидящие напротив,
мужчины-музыканты, одни с раздутыми огромными, другие с длинными вытянутыми
трубам - тут же подхватывали звук ее трубы, и согласная музыка разносилась
далеко к реке, сзывая гуляющих окрест людей на стадион.
Мы с Васьком подошли близко, не сводили глаз с гудящих, посверкивающих медью труб. Васек растягивал в беззвучном смехе губы, размахивал руками, чудачился под маршевые звуки, А я стоял, будто завороженный, слушал и дивился умению странной женщины в очках и с трубой издавать повелительные звуки, вовлекать голоса других разных труб, рождать согласную возбуждающую музыку.
Эту женщину и духовой оркестрик, делающий праздник из обычного
дня, я тоже запомнил с каким-то почтительно благодарным чувством, - своей
музыкой он объединял совсем разных людей в одном волнующем ожидании.
Люди входили, с любопытством поглядывали на оркестрик,
рассаживались на скамейках с внутренней стороны ограды, терпеливо ждали, когда
начнутся соревнования бегунов.
Всезнающий Васек увел меня в дальний конец стадиона, где несколько
спортсменов разминались перед бегом.
- Эвон, они! - шепнул он.
На зеленеющей траве лежал на спине, раскачиваясь, закидывая за
голову ноги в синих спортивных штанах, красивый человек, с волнистыми светлыми
волосами. Человек ловко раскручивал гибкое свое тело, перекатывался через
голову, вскакивал, легко, пружинисто приседал, меняя местами ноги, бросал руки
то вверх, то в стороны, вдруг срывался с места, делая короткую пробежку, возвращался,
что-то с улыбкой говорил наблюдающим за ним людям.
- Это - Серафим! - опять
шепнул мне Васек, - Разминается! - Видать, он и побежит. А - Георгий, - тот,
что в костюме. Он - серьезный. Не всегда бегает. И тренер с ними...
Оркестрик замолчал, по стадиону через громкоговоритель объявили:
"Забег на тысячу пятьсот метров" - и с особой торжественностью
провозгласили: "В забеге участвует победитель всесоюзных легкоатлетических
соревнований, чемпион страны - Серафим Знаменский!".
Сердечко мое дрогнуло в ожидании необычной радости. Что было
поводом к тому? Вроде бы не было никакого духовного мосточка между мной и
известным всему миру бегуном. Знаменский - спортсмен, конечно же, даже не знал
о существовании двух мальчишек, следивших за ним с как будто бы от рождения
обретенным обожанием. И что-то все-таки связывало меня и Васька с этим красивым
стремительным человеком: он мог то, что не могли мы. Мы хотели, но не могли
прославить свою страну, он делал то, что не могли мы.
Бежал Серафим по гаревой дорожке легко, стремительно с каким-то
особым изяществом выкидывая далеко вперед сильные стройные ноги. Один круг,
второй... На третьем круге он бежал уже один, - все, кто решился выйти в один
забег с чемпионом, с видимой медлительностью одолевали еще только второй круг.
Когда последний бегун пришел на финиш, объявили, опять-таки через
громкоговоритель, результат Серафима Знаменского.
Люди на скамейках захлопали, а мне почему-то было очень важны
минуты и секунды, за которые Серафим преодолел целых полтора километра.
Я так и этак укладывал в своей памяти услышанные секунды, чтобы не
размылись они, не забылись. Какое-то еще неясное беспокойство, какое-то
движение в мечтательной моей душе произошло. Как будто увидел я там, впереди,
со временем для меня возможное, что-то замерцало, засветилось далекой, туманной
еще звездочкой, безгласно манящей из моего будущего.
Вспоминаю и думаю умом уже нынешним о таинствах самой жизни: знал
ли наперед кто-то из всемогущих всю мою еще не прожитую жизнь? Не он ли
засветил эту манящую звездочку? Или все шло само собой выстраивалось по единому
природному закону, по которому из событий прошлого составляется настоящее, из
случившегося в какой-то день и час настоящего прорастает уже зависимое от него
будущее?
Пронесся перед взволнованным моим взором на подмосковном стадионе,
в знаменитой Тарасовке, прославленный спортсмен, и мальчишеское мое воображение
повлекло меня вслед за ним. И как ни переполнено было последующее время другими
событиями, возможностями, поступками, вспыхнувшая звездочка светила мне сквозь
пестроту настоящего, и вся череда чувствований, желаний, стремлений, усилий,
совокупность которых, собственно, и есть жизнь, вела меня к ней.
И случилось так, что всего через шесть лет, далеко от Москвы - на
земле Вятской - обстоятельства свели на одной беговой дорожке меня и чемпиона
области по бегу. И звезда Серафима Знаменского, светившая все эти года, дала
мне силу и упорство победить.
Была это первая настоящая победа сильной, стремительной моей
молодости на виду сотен зрителей, удивленных поражением чемпиона. И было это
*
*
*
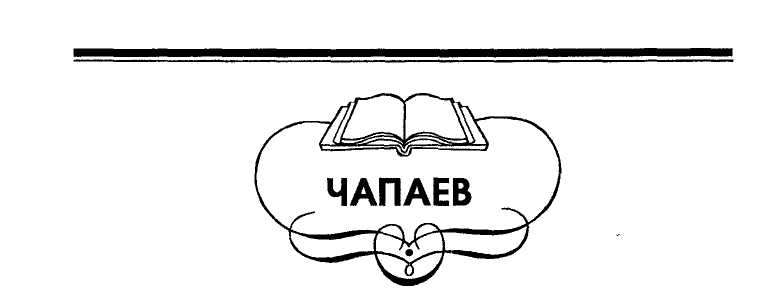
Угловое здание на Пушкинской площади, где располагался небольшой
кинотеатр, расцветилось огромным плакатом: Чапаев в папахе, с выброшенной
вперед рукой, и Петька, приникший к прицелу пулемета - новый фильм о войне!
Мальчишеский мир возбужденно загудел:
- Чапаева видел? Не
видел?! Конюч у матери двугривенный, чеши в кино, пока показывают!.. -
слышалось везде: на улицах, во дворе, в школе...
Зажав в ладошках по двугривенному, мы с Вадькой, соседом по дому,
встали в очередь, растянувшуюся по тротуару едва ли не до Страстного монастыря.
Вадька еще не оправился от простуды, покашливая сопел. Мать, строгая женщина в
старомодном пенсне, провожая Вадьку, туго обмотала цыплячью его шею красным
шерстяным шарфом.
- Смотри, не смей снимать!
- напутствовала она.
Очередь мы выстояли, разделяя общее нетерпение. И когда узкие голубоватые билетики с обозначением цены и места оказались в наших руках, и мы, вместе с дядями, тетями, мальчишками, девчонками, одинаково возбужденными ожиданием необычного, поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, в узкий зал, уже до отказа забитый людьми, и в зале потух свет, и засветился экран, - все вокруг перестало быть. Вся моя двенадцатилетняя жизнь унеслась туда, в Заволжские степи, где бился Чапай за победу. Это я нырял в реку у моста за утопленной при отступлении винтовкой. Я, вместе с Петькой, стрелял из нагана, приказывая: "Тихо, граждане! Чапай думать будет!..".
Я вместе с Анкой бледнел у пулемета, глядя, как картинно, с
леденящим сердце бесстрашием надвигаются в психической атаке каппелевцы. Это мы
с Вадькой в порыве восторга вскакивали, когда в уже подступившем отчаянье,
вдруг орлино вылетал в открытую степь Чапаев, на белом коне, в развевающейся
бурке, впереди своего победного эскадрона. И когда Чапаев, уже пораненный,
бросился в Урал-реку и плыл под всплески бьющих в воду пуль к спасительному
берегу, я молча, с пересохшим от волнения горлом твердил: "Доплыви, Ну,
же, доплыви! Доплыви..."
Все померкло перед глазами, когда вода сомкнулась над головой
Чапая. И даже победная пушечная пальба чапаевцев, запоздало прискакавших на
выручку и сбросивших беляков с крутояра в Урал-реку, уже не могла просветлить
моих затуманенных скорбью глаз.
В молчаливо движущей из кинозала толпе вышли мы с Вадькой на
площадь. Шли как во сне, не видя ни домов, ни людей, ни трамваев. У памятника
Пушкину, в свете фонарей, Вадька вдруг схватился за шею.
- Вовка! - вопросил он
испуганно. - А где шарф?! Ни на шее, ни на груди, шарфа не было. Пока мы
скакали в степях, вместе с Чапаем, какой-то хитрый жулик смотал с Вадьки
бесценный материнский шарф.
Дома ждала Вадьку взбучка.
Он стоял, охватив шею рукой, молчаливые слезы текли по его щекам.
- Ладно, - сказал я
угрюмо. - Ты уж не очень. Чапай там погиб. А тут - шарф...
В моем потрясенном сознании гибель Чапая и потерянный шарф, были
величинами несоразмерными.
Правдами и неправдами, экономя на школьных завтраках и мороженном,
копил я двугривенные, чтобы еще, еще и еще раз побыть рядом с Чапаем.
Я не понимал в чем, в каких художественных поворотах сокрыта тайна
этой удивительной картины, с которой, наверное, в счастливый миг,
соприкоснулась моя отроческая душонка, но я чувствовал, как после каждой новой
встречи с Чапаем мне хочется быть лучше, чем я был.
Смотреть "Чапаева" ходили мы с мамой, и с ребятами из нашего двора, и вместе со всем классом, и снова ходил я в одиночку, когда представлялась хоть малейшая возможность. И пока шел фильм, я просмотрел его двадцать три раза. Я помнил каждое слово, каждый взгляд, каждое движение Чапая, Петьки, Анки, всех, кто на какие-то минуты появлялся в волшебном квадрате экрана.
Как теперь я понимаю, потрясла меня не только романтика борьбы за
лучшую людскую долю. Таинственная сила фильма была в самой идее человеческого
возвышения даже среди еще не устоявшейся жизни, вздыбленной революцией и
гражданской войной.
Чапаев преобразил наш мальчишеский мир. Для нас он оставался живым. Это там, в кино, ударила его пуля. Это там, в кино, в полумраке молчаливо-напряженного зала, болью сдавливало сердце при виде замедляющихся взмахов его руки, почти уже доплывшего до спасительного берега. Но здесь когда возвращались мы к себе во двор, Чапаев оживал в нашем сознании, и упрямый голос его, плывущего: "Врешь, не возьмешь!", пробуждал в нас жажду справедливых поступков.
Двадцать четвертый раз смотрел я фильм о Чапаеве уже на фронте.
Полк вывели из тяжелого боя в заснеженные леса прифронтовой полосы, я стоял
среди солдат, опираясь на палку, моя воспаленная нога болела от глубоко
врезавшихся осколков немецкой мины. Но вот, на экране, натянутом между стволами
сосен, снова появился Чапаев, снова заговорил убежденно, горячо, восстанавливая
в каждом из нас нарушенный неудачным боем и скорбными потерями душевный
порядок. И был он в этот двадцать четвертый раз еще ближе, понятнее,
необходимее, чем тогда, в общем-то, недалеком отрочестве.
И вновь почувствовал я неудовлетворенность собой. Забравшись в
промерзшую палатку, ночь просидел в раздумьях у горячей железной печурки.
Утром я был у комбата. Я просил выдать мне снайперскую винтовку.
Комбат, бывший школьный учитель, долго разглядывал меня, как
нечто, прежде невидимое.
- Лейтенант, - сказал он,
хмурясь. - У вас есть свое докторское дело. Вам ли ползать с винтовкой за
передним краем?
- И мое тоже, -
упорствовал я, - Я хорошо стреляю. С детских лет жил и охотничал в лесах. Я
могу делать больше, чем делаю!
Взгляд комбата потеплел.
- Ну, что ж, сказал он,
скрывая в заостренных чертах сухого лица одобрительную улыбку, - Винтовку вы
получите. Но за передний край только с личного моего разрешения! И только после
того, когда будете за сто метров попадать в пятак!..
Класть пули точно в «пятак» я научился быстро. Я действительно хорошо стрелял. В юности приходилось охотиться по самой трудной для стрельбы птице - по взлетающему из-под ног бекасу. Из десяти поднятых, стремительно зигзагами уходящих бекасиков, я сбивал восемь.
После второго боя моя пуля поразила немецкого офицера. Мысленно я
отнес, эту трудно давшуюся мне личную победу, на незакрытый счет Чапая.
В двадцать пятый раз встретились мы с Чапаем снова в Москве, в
эвакогоспитале № 3134, на улице Радио, где размещали самых тяжелых,
изуродованных войной бойцов, уже не могущих возвратиться в строй.
В полутемное, с зашторенными окнами зале, среди тех, кто мог до
стульев, составленных в ряд, допрыгать на одной ноге, или, ничего не видя, мог
еще слышать, я сидел в инвалидной коляске, которая заменила мне оторванные, в
последнем для меня бою ноги. Отрешившись от общего для всех нас несчастья,
смотрел я на экран, растянутый в глубине сцены, где знакомо развертывалась
другая, но та же война, жестоко прокатившаяся теперь и по нашим судьбам. Внимал
не столько потускневшей, в нынешней войне романтике сражений, сколько почти с
болезненной сосредоточенностью следил за судьбами сроднившихся со мной людей,
сумевших даже на войне становиться лучше, чем были они прежде. Ведь за стенами
госпиталя ждала другая непривычная жизнь, и мы готовились в ней жить.
В задумчивости катил я себя из зала по длинному коридору, по
которому все, могущие прыгать на костылях и ездить на колясках, разбредались по
палатам на свои койки, в малом пространстве которых месяц за месяцем проходила
наша жизнь в ожидании новых и новых операций. В задумчивости приехал я и в
столовую, на ужин к столику, закрепленному за мной и соседом по палате. Сосед
Саша был другом по несчастью, но в неизмеримо лучшем положении, чем я - у него
оторвана была лишь ступня, - и в ожидании протеза, он, высокий, худой,
черноволосый, с завидной легкостью прыгал на одном костыле, как кенгуру. Он
тоже смотрел "Чапаева", тоже был молчалив и задумчив и как-то
особенно предупредителен: то передавал ложку, то пододвигал ближе хлебницу,
солонку.
Наши взгляды встретились и то, что теснило душу, выплеснулось
как-то само собой.
- Сашка, - сказал я. -
Знаешь, мы, наверное, оба хотим быть лучше, чем мы есть, давай говорить в глаза
и без обиды все, что заметим друг в друге плохого. Как на это смотришь?
Друг мой с готовностью согласился, от волнения даже пригладил свои
прямые, спадающие на уши волосы.
- Говори первый, что тебе
не нравится во мне? - сказал он, и в глазах его, в крепко сжавшихся губах, я
увидел решимость выстоять перед моим взыскующим словом.
Нет, это надо было понять! Два человека, выбитые войной из
привычной человеческой жизни, сидят друг против друга, и пытаются очистить от
малейших пятнышек свои, непонятно как сохраненные среди смертей и крови души!
Сидят друг против друга и как будто не ведают о ждущих их унижениях,
огорчениях, страданиях! Удивительно! Невероятно! Но так было! И быть может, не
столь невероятно, если вспомнить, что было нам тогда всего по двадцать лет!..
Я понимал, мои бескомпромиссные суждения вернутся ко мне и,
наверное, с такой же пренеприятной правдой. И, все-таки, набрался мужества,
сказал:
- Знаешь, Сашок, что очень
не понравилось мне в прошлое воскресение?..
- Что? - выдохнул он с
каким-то даже страхом, подавшись узким своим телом через стол ко мне.
- А вот, что, - уже
решительнее, сказал я. - Девушка, которая навещает тебя каждое воскресение,
любит тебя. Ты понимаешь это? Она добрая, вся в заботах о тебе! А ты
небрежничаешь, думаешь, что можешь найти девчонку получше. Если не люба она
тебе, так и скажи ей. Будет больно, но честно! Зачем обнадеживать человека.
Что-то вроде игры получается у тебя. А девчонка, поверь мне, твоей жизнью
живет!
С притаенным волнением ждал, что ответит мой друг. – Ведь он умел
отшутиться, умел осадить резким словом, даже уязвить. Всегда был независимым от
суждений других людей, лежащих рядом на соседних койках и больше него
умудренных жизнью. Мне, юнцу, его ровеснику, он мог бы ответить убийственной
усмешкой! Но оба мы только что соприкоснулись с миром возвышенного искусства, и
оба судили себя с высоты его.
Друг в молчании водил пальцем по клеенке. В нахмуренном лице
проглядывало раздумье, губы то самолюбиво сжимались, то приоткрывались в
насильственной улыбке.
Наконец, преодолев тяжесть нелегких для него раздумий, он,
вздохнув, сказал:
- Надо обдумать...
Много лет спустя, затеряв друга но несчастью в необозримом
житейском море, я все-таки услышал о нем: жизнь свою он посвятил архитектуре,
стал известной личностью. Но главным для меня сказалось другое: он женился на
той девушке! И именно она сумела создать счастливую семью, надежно закрепив
семейное согласие двумя прелестнейшими, как мне сказали, умницами-дочками.
Но все это было потом. За маленьким столиком госпитальной столовой
я ждал приговор себе.
Друг долго глядел на меня, стараясь критически осмыслить мои
человеческие слабости. Наконец, с какой-то беспомощностью, признался:
- Знаешь, ничего такого я
в тебе не нахожу.
- Но ведь так не может
быть! - воспротивился я.
И тогда, почему-то хмурясь, он сказал:
- Знаешь, Володька...
Я широко открыл глаза, внимая.
Он договорил:
- Ты, какой-то
беспощадный. Вот, рядом с тобой человек хороший, а тебе мало, - хочешь, чтобы
он был еще лучше. Ни себя, ни других не жалеешь. Ты выдумщик, Володька. Ты
беспощадный идеалист! Тебя ждет трудная жизнь!
Я хотел правды, я услышал ее. Может быть, впервые смотрел я на
себя чужими глазами. И странно: уже ночью, лежа на своей койке в углу
госпитальной палаты, осмысливая под бормотанье и стон израненных моих товарищей
приговор друга, я не воспротивился ни одной из названных им моих слабостей.
С ними вышел я из войны. С ними ушел из госпиталя в жизнь.
*
*
*
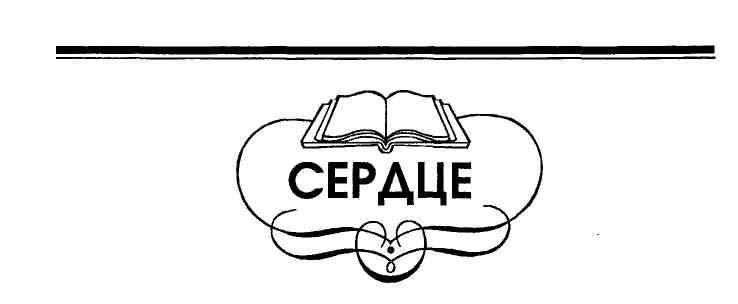
Сердце! Комочек мускулистой ткани, перегоняющий кровь по артериям,
венам, и капиллярам. В каждом из теплокровных созданий природы, бегающих,
летающих, ныряющих есть сердце. Есть сердце и у человека. Но человеческое
сердце не только омывает кровью клеточки тела, даруя кислород, необходимый для
жизни. Оно таинственно связано с разумом, оно волнуется, любит, ненавидит,
страдает, сжимается от боли, гулко бьется в радости, когда к человеку приходит
удача, или когда человек обретает нравственную победу. Но бывает и так: сердце
заболевает.
Впервые узнал я, что сердечко мое кому-то может, не нравиться, на
двенадцатом году жизни. После сильной ангины, обложившей хрипящее мое горлышко,
женщина-врач, посещавшая нас на дому, долго выслушивала через трубочку мое сердце,
наконец, со вздохом сожаления сказала моей маме:
- Горлышко укусило
сердечко. Чтобы не испортить вашему сыну будущее, придется месяц полежать в
постели...
Сквозь прихлынувшую радость о месячной вольнице, когда можно целый
день читать Жюля Верна и Фенимора Купера, я увидел встревоженное лицо мамы, в
плотно сжавшихся ее губах появилась непреклонность, свойственная ей в минуты
беды. На целый месяц кровать стала местом моего обитания.
Когда отец уходил на работу, и мама уходила по своим делам, я начинал
деятельную жизнь: тянул от черного круглого репродуктора проводки к своей
кровати, придумывал включатель-выключатель, чтобы управлять голосом и музыкой,
не вставая. Из нитяных катушечек, деревянного поршня и резинки сооружал пушку,
возводил у дальней стены крепость из спичечных коробков, пластилином приклеивал
к полу спички - вражескую рать, горохом метко стрелял из пушки, поражая
дурашливых солдатиков.
Проводки от репродуктора, конечно, приходилось прибивать к стенке
гвоздиками, усложнялись и цели для стрельбы: я развешивал их на стенах, вбивая
новые гвозди, и когда мама возвращалась, обозревала мои полигоны, я притихал в
кровати под ее укоризненным взглядом.
- Ты же взрослый мальчик,
- говорила мама расстроено. - Должен понимать, что будущая твоя жизнь может
очень и очень осложниться больным сердцем.
Я понимал маму, но честное слово, я не чувствовал себя больным!
Поправив подушку, подоткнув под меня одеяло, мама начинала
прибирать в наших двух комнатах, обтирала влажной тряпочкой подоконники,
стулья, двери. Мама была очень исполнительным человеком, со вниманием слушала
по радио передачи "За здоровый быт", неукоснительно следовала советам
к рекомендациям.
Прибираясь, она начинала напевать свою любимую светло-печальную лермонтовско-лемешевскую "Выхожу один я на
дорогу..."
Я затихал, слушал, и почему-то, слушая маму, мне хотелось плакать.
Наверное, от того времени сложилось у соседей, отделенных от нашей
квартиры звукопроницаемой стеной, такое вот, не очень лестное мнение:
"Соседи-то, в общем, ничего. Только мальчик без конца заколачивает гвозди,
а мамаша все время поет!.."
Так прошло трудное для моей деятельной натуры домашнее
затворничество. Когда заботливая женщина-доктор, с которой за время болезни мы
все-таки подружились, тщательно выслушав мою грудь, наконец, разрешила мне,
правда, не скрывая некоторых сомнений, подняться и пойти в школу, я, забыв все
ее наставления, с прежним азартом, снова бросился в бегающий, прыгающий, орущий
мальчишеско-девчоночий мир.
Наверное, потому, сердце мое, отвыкшее от такой бурливой жизни, и
обиделось на меня.
Случилось это уже в горах Урала, в Миассе, куда в скором времени забросила нас переменчивая папина судьба. Учился я уже в восьмом классе, когда почувствовал с некоторым удивлением, даже растерянностью, что сердечко мое живет как бы отдельной от меня жизнью.
То вдруг застучит так, что я слышу, как толкается оно в грудь, то
вдруг остановится, тоскливо замрет, заставит меня остановиться, досадливо
поморщиться. Я, помня, как московский доктор, прослушивал пульс, охватывал
пальцами свое запястье, нащупывал бившуюся под кожей жилочку, считал натужные
удары: тук-тук - пауза, тут-тут-тут - снова пауза, и замирание в груди.
Не то, чтобы я испугался, просто досадно стало, почему мое сердце
не хочет жить так, как живу неостановимо я, среди лесов, гор и озер.
Маме я не жаловался, у нее достаточно было своих забот, да и
боялся я в тех, уже самостоятельных годах, излишней опеки. Но сердечко
досаждало, оно останавливало меня в минуты самых деятельных поступков.
Я решил сходить к врачу. Сам. Один. Без мамы. Врач, к которому я
попал, полноватый мужчина в белом распахнутом халате вел себя, как артист на
сцене. Повертел меня, приложил трубочку к боку, обстучал грудь. Взмахнув
короткими руками, и глядя округлившимися глазами, сквозь съехавшие на кончик
носа очки, воскликнул трагически:
- У вас, юноша,
классический порок сердца! Немедленное освобождение от всякой физкультуры.
Режим, только режим, щадящий режим во всем!..
От пугающих слов «порок», да еще «классический» я сник. Ушел от
врача в подавленном настроении.
Я понимал, докторский наказ, если я буду его выполнять, это конец
вольностям моей жизни. Меня могут снова загнать в тоску домашнего
затворничества.
В тайне от всех я аккуратно пил сердечную микстуру, прописанную
врачом. И в то же время, дождавшись сдвоенного урока физкультуры, показав
физкультурнице врачебную справку, я торопливо шел в неуютный домишко недалеко
от школы, где мама сняла мне комнатушку на время учебы в городе. Портфель
зашвыривал на кровать, раскладывал ружье, прятал под пальто стволы и ложе, с
трудом сдерживая нетерпение, уходил по узкой крутой улице в горы. Там по лесным
засугробленным загорьям бродил, не торопясь, до потемок, распутывая хитрые
заячьи ходы. Когда же случалось, находил наброды куропатчей стаи и возбуждался
от близости дичи, меня тут же останавливал частый стукоток в сердце. Вообще я
легко спускался с гор в лощины, но медленно, с остановками поднимался по крутым
склонам, слыша уже не стукоток, а гулкие удары в груди.
Странно, кругом были сосновые леса и океан чистейшего горного
воздуха, а мне не хватало дыхания!
После нового года я должен был снова показаться врачу, но заявился не в срок и попал к другому доктору.
Доктор с косматящимися на лбу седыми волосами, с широким, крепким
телом, растягивающем на груди халат, хваткими руками поставил меня перед собой,
ощупал сильными пальцами плечи, мускулы на руках, прослушал, простукал грудь,
Просмотрел с какой-то даже сердитостью записи в истории моей болезни, снова,
повернувшись ко мне, пронзительно вглядываясь в мое смущенное лицо, сказал:
- Вот, что, юноша,
ангинка, разумеется, сердце куснула. Шумок систолический есть. Можно, конечно,
назвать это сердечным пороком. Но... Если вы хотите жить достойной жизнью, не
хватаясь за сердце, - вот мой совет. Первое, физкультура должна стать любимым
вашим занятием. Второе, ходите, бродите по горам, влезайте, карабкайтесь до
самых вершин. Бегайте на лыжах. Купайтесь в озерах. Тренируйте себя и свое
сердце неотступно. Сердце не успевает за быстро растущим вашим телом. Надо
помочь ему!
Доктор разглядывал меня, выжидающе, как бы взвешивая мои
человеческие возможности.
А я смотрел на доктора широко раскрытыми глазами, еще не в силах
поверить, что ни на кого не похожий доктор возвращает меня в мир, без которого
не мог я жить.
Был у меня товарищ по охоте из большой татарской семьи - Нурла или
Николай, как звали его на русский лад. С ним мы ходили в горы тропить зайцев.
Не раз бывало: распутав ночные наброды, стронув зайца с лежки, я с мгновенно
вспыхивающим азартом бросался вслед за зверьком, мелькнувшим в кустах снежным
комочком. И тут же останавливался: сердечко заходилось стукотком, раскрытым
ртом хватал я воздух, смотрел виновато на раздосадованного Нурлу.
После многих неудач мы, наконец, придумали свой способ охоты, нигде
никем еще не описанный, и доступный мне.
Мы знали, гонный заяц ходит кругами, рано или поздно он
возвращается на свой же след. Чтобы перехитрить хитроумного трусишку, мы
разделялись. Нурла, затаившись, приседал с берданкой за сосной, у заячьей
лежки, а я не спеша, отправлялся по заячьему следу. Час, другой шел я по
отметинам заячьих лап, медленно поднимался по склонам, так же медленно
спускался в лощины, продирался сквозь кустарник, снова и снова поднимался на
покрытые лесом горы. Сдерживая охотничье нетерпение, одолевая одышку, шел я и
шел размеренно, неотступно, похрустывая валенками по снегу, ревниво
прислушиваясь, не раздастся ли выстрел в той стороне, где таился Нурла.
Так до мартовских оттепелей приучал я мое сердце к долгой работе,
и всё реже задерживал меня на нескончаемых лесных тропах сердечный стукоток. Я
чувствовал, сердце мое готово к другим, неизмеримо большим радостям жизни.
Когда глубокие снега уплотнилась мартовским настом, мы уже могли
на лыжах самоотреченно бросаться по крутому склону, в белеющую внизу долину.
Неслись со свистом в ушах, и сердце замирало, нет, не от слабости, - от жути
восторга в надснежном полете!
Но и этого было мало. В конце склона соорудили высокий трамплин и
взлетали, как птицы, ввысь, равняясь чуть ли не с вершинами подступавших к
просеке сосен. Ломали палки, разбивали лбы, но снова и снова упрямо взлетали к
небу, испытывая силу послушного теперь сердца.
Не знаю, сила ли все одолевающей юности, вытянуло мое сердечко из
зубов отроческой коварной болезни? Или сам, целительный воздух гор и сосновых
лесов, чистейшие воды озер, часами баюкавших меня, когда в медленном упорстве
переплывал я километры, до каменистых островов и обратно, незримо крепили
возможности моего сердца? Но строгий предупреждающий его стукоток слышать я
перестал. Свою жизнь я уже не мыслил без лыж, без бега, без многокилометровых
ходок с ружьем за плечами.
И когда в уже наступившей войне, я попросился на фронт, и проходил
врачебную комиссию, женщина врач-терапевт, выслушав мое сердце, оглядев спортивное
мускулистое мое тело, восхищенно воскликнула: "Вот такие летчики нам
нужны!"…
Наверно, я стал бы летчиком и взмыл бы в небо, навстречу немецким
"Мессершмитам", если бы не близорукость моих глаз.
Воевать пришлось мне на земле. И сердце мое выдержало все: и
тысячекилометровые походы, и иступляющие бои, и тяжелые раны, и горечь
неизбывных потерь.
Вот уже восьмой десяток не останавливается в груди моей сердце,
давая возможность и работать, и жить, и видеть по утрам встающее над лесами
солнце.
И думаю я теперь: каким счастьем было встретить в дни
неустоявшейся моей юности Доктора-Человека, сумевшего вдохнуть веру в силу
собственного моего сердца!
*
*
*
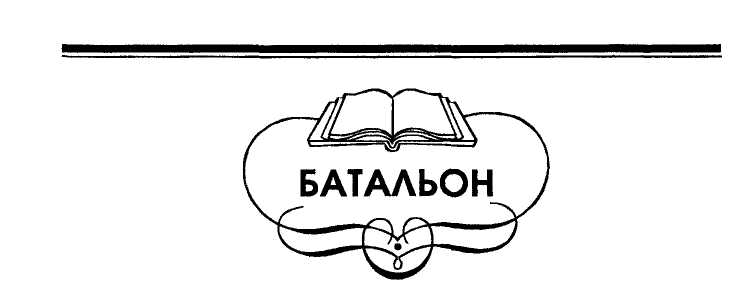
От тревожного внутреннего толчка я поднялся стремительно. Стоял,
соображая, что случилось. Только что был я в плотной массе людей, все мы,
солдаты и командиры, измотанные двухнедельными ночными переходами, лежали по
обеим сторонам дороги, выхватывая в коротком привале минуты сна. Обычно, вслед
за каждым привалом следовала взбадривающая команда, передаваемая из конца в
конец наружными голосами. "Стройся!.." и люди, обрывая сон, отупело,
расталкивали друг друга, тяжело поднимались, замедленными движениями накидывали
на спину вещмешки, винтовки, сдвигались к дороге, начинали движение в ночь, к
таинственной точке, обозначенной лишь на карте комбата. Повторялось все это
много раз, проделывалось как бы помимо собственных усилий, и оказаться вдруг в
одиночестве, в безлюдье, в безмолвии ночи, было подобно оглушающему взрыву
снаряда.
Еще не сознавая всю отчаянность положения, я прислушался, - ни
звука не доносилось, ни с земли, укрытой мраком, ни с небес, мерцающих
звездами. В стороне фронта всплывали осветительные ракеты, обозначив над
горизонтом мерцающую хвостатую дугу, гасли. В другой стороне, там, где в
немыслимой дали, был мой дом, обихоженная мною земля, не было ни огонька, ни
даже слабого отголоска. И над полевой дорогой, на обочине которой я стоял, по
которой, как мне казалось, только что ушли в ночь сотни людей, уже не висела
пыль, сама дорога была пуста и безгласна.
Сколько же пролежал я в сонном забытьи? - соображал я. - И почему
никто не толкнул, не пробудил?.. Ах, вот оно: сделал я несколько лишних шагов в
сторону, завалился за высокий бурьян.
Усталые солдаты, пробужденные из минутного сна, не разглядели
меня. Всего несколько лишних шагов в сторону, и вот расплата, - один я в ночи
между смертельно враждующими мирами!
Я рос в лесах, в свободе юношеских устремлений. Одиночество
никогда не пугало меня. Один, с ружьем за плечами, бродил я по лесным урочищам,
коротал ночи у костра под угрюмое уханье филина, а то и под тоскливый
предсмертный стон лося, затравленного волчьей стаей, и не ведал ни страха, ни
отрешенности от дома, от людей, среди которых жил. Знал, в любое время дня и
ночи возвращусь знакомыми дорогами, и люди, и дом примут меня. Всего месяца
два-три назад, замкнутым в стенах военного училища дисциплиной и долгом, я с
тоской смотрел на Уральские горы, окутанные дымкой лесов, и не было большего
желания, чем оказаться там, под нависью сосновых ветвей в былой своей свободе.
И вот я в совершеннейшем одиночестве! Надо мной нет власти ни
комбата, ни комиссара, нет глаз все видящих, все понимающих солдат. Один я,
один! При полной своей воле. Шагай в любую из четырех сторон! Вкушай свободу,
возвращай былые радости, отобранные войной! Ах, как заманчиво кому-то видится
из нынешней расшатанной жизни упоительность воли, что ничего нет выше твоей,
личной, свободы!
Тогда же, в ночи, я не ощутил даже вспышки радости от ниспосланной
мне свободы. И не потому, что оказался в очевидной опасности, могущей в любую
из минут подстеречь меня в этой пустынной полосе в каких-то четырех-пяти
километрах от линии фронта: немецкая разведка действовала настойчиво, и
одинокий лейтенант был бы для нее неплохой добычей. Не пришло в голову и
возможное обвинение в дезертирстве, что случалось порой от излишней
подозрительности особистов.
Нет, не кары, вполне возможные, устрашили меня. Меня устрашило
одиночество! Да-да, то самое одиночество, в котором я взрастал, та, самая
свобода, о которой еще недавно тосковал!
В подступившем отчаянии побежал я в том направлении, в котором прежде шел батальон, на бегу и в темноте угадывая дорогу по смутным очертаниям бурьяна, росшего сплошь по обочинам. Бежал, задыхаясь не от бега, от сознания невозможности остаться одному в смертельно враждующем мире. Единственным желанием было - услышать топот солдатских ног и глухое погромыхивание повозок.
Мое состояние можно представить, только поняв, чем был батальон
для каждого из солдат в условиях войны. Я помнил, как однажды попытались
отправить меня из батальона в госпиталь. Валялся я в санвзводовской палатке в
полубреду, с температурой под сорок, и именно в тот день поступил приказ о переброске
всей бригады за сотню верст на другой участок фронта. Военврач долго смотрел на
меня, щупал пульс, наконец, распорядился:
- В армейский госпиталь.
Немедленно. Палатки сложить, погрузить. В ночь выступаем!..
Военврача я понимал: имущества много, повозок в обрез. С тяжело
больным в многодневном движении одна морока. Но я знал: армейский госпиталь -
это уже точно не вернуться в свой батальон. В армии батальонов сотни. Для меня
же мой батальон - единственный, Я уже врос в него, как дерево врастает корнями
в клочок земли, на котором его посадили.
- Нет, - сказал я, глядя
на военврача воспаленными от жара глазами. - Нет!..
- Но места в повозке мы не
найдем, лейтенант! - уже раздраженно воскликнул врач.
- Повозки не надо. Я -
пойду... - сказал я.
- Как пойдете?!
- Пойду, - повторил я
упрямо.
И пошел. Два солдата взяли меня под руки. Первые километры шел на
подгибающихся ногах. Неудержимо тянуло лечь, распластаться тут же, на дороге, в
пыли. Порой я обвисал на солдатских руках, меня почти волокли. Глаза затмевал
красный туман, голова разламывалась от боли. Так довели меня до первого
привала, до... второго. С третьего привала дышаться стало легче, хотя лоб и
спина были в холодном поту. Когда утренняя зорька высветила колонну, и объявили
дневку, я без чувств завалился меж берез в траву. Очнулся, солнце уже клонилось
к лесу. Гимнастерка мокра, будто выполз я из воды, но в голове ясность,
ноги-руки не дрожат. Поднялся, огляделся. Вокруг, в поросли молодых берез,
люди, люди лежат, сидят, ходят, - все свои, мой единственный для меня,
батальон!
Для солдата на войне нет другого дома. В батальоне для каждого, -
будь то солдат или командир - всё: от оружия до сапог и пилотки. Здесь тебя
кормят, обмывают, лечат, здесь осознается человеческая общность, завязывается
родство по пролитой крови.
Если ты отторгнут от батальона, ты уже не воин, ты уже не жилец на земле опаляемой войной.
В лихорадке бега я прикидывал, как далеко мог уйти батальон за то
время, пока в забытьи я лежал в сокрывшем меня бурьяне. Час - два? - соображал
я. Но это десяток километров!..
До возможного ускоряя бег, я вдруг остановился: полевая дорога под
прямым углом уткнулась в широкую, похоже, недавно проложенную рокадную дорогу.
Я заметался. Куда свернул батальон, - направо, налево?.. Если
батальон свернул налево, а я устремлюсь направо, к какому концу приведет меня
дорога?..
Стоял, прислушиваясь, - ни звука! Мрак по-прежнему укрывал землю.
Я опустился на колени, помня, как когда-то по ночным следам разгадывал
зверюшечью жизнь. Низко приклонив лицо к земле, все же разглядел в самом конце
проселочной дороги вмятины тележных колес. Едва видимые, они загибались в левую
сторону. На плотной рокадной дороге их уже не было видно, но последние метры
проселка все-таки указали мне путь!
Теперь я бежал, слыша стук своих сапог по твердой прикатанной
земле. Бежал, размышляя: с дороги, идущей вдоль фронта, батальон обязательно
должен свернуть. Но куда - влево, вправо? Если на рокадную дорогу он вышел
слева, - соображал я, - то сойти с дороги мог только вправо!..
Я перебежал на правую сторону, бежал теперь по обочине, стараясь
не пропустить даже мало-мальски заметного бокового съезда. Отмахал я уже не
меньше двух километров, со все возрастающим беспокойством останавливался,
вслушивался в окружающее меня безмолвие. Ни единого спасительного для меня
звука не улавливал мой слух. Только оттуда, где взлетали ракеты, доносилось
погромыхивание орудий.
Во тьме, в тревожном своем беге, запнулся я о камни, сдвинутые на
обочину. Удар по колену был столь болезненным, что пришлось опуститься на
землю. Сидел, морщась, растирал ногу, с досадой думая: "Вот уж не ко
времени..."
Утишив боль, попробовал подняться. Рука придавила что-то,
непохожее ни на камень, ни на траву. Поднес к глазам. Разглядел скомканную
пачку от папирос. Знал: папиросы обычно входили в командирский паек. Сам я не
курил, но в руках других видел такие пачки дешевых, со звездочкой, папирос.
Пустая пачка могла, разумеется, принадлежать любому из тысяч военных людей,
когда либо проходивших или проезжавших здесь. Но эта пачка была свежая, от нее
пахло табаком!
Я уже не сомневался, что выкурил последнюю папиросу и выбросил
опустевшую пачку кто-то из командиров нашего батальона!
Надежда возбудила, я вскочил и тут же охнул, ступив на ушибленную
ногу. И все же побежал вприпрыжку, охотничьим
чутьем улавливая спасительную близость людей.
Где-то на исходе третьего километра увидел, наконец, промятую
обочину. Широкий съезд переходил в лесную дорогу. Конечно, все могло быть и с
этой дорогой, - десятки батальонов и полков по всяким военным надобностям
постоянно перебрасывались с места на место. Наткнуться на чужую часть, да еще в
ночное время, было далеко не лучшим завершением моего беспокойного одиночества.
И все же, не раздумывая, с той же болезненной припрыжкой, я углубился под навись
ветвей, веруя в близость моего батальона.
После нескольких мучительных пробежек по избитой, в колдобинах
лесной, дороге, в еще более сгустившейся под пологом леса тьме, я остановился
на опушке успокоить стук перенапряженного сердца, и услышал, как донеслось из
глубины леса, дробное, по корням, тарахтенье тележных колес, ворчливые окрики
ездовых, топот и приглушенный говор людей!
Прислонился к стволу сосны, стоял, закрыв глаза, чувствуя на щеках
слезы. На фронте вряд ли кто видел плачущего солдата, даже среди битых,
перебитых и уходящих в небытие. Слезы мои не были слезами человека, шагнувшего
из юности прямо в войну и не успевшего еще ожесточить себя обыденностью смертей
и крови. Слезы мои были не о прошлом, это были слезы избавления от страшного на
войне одиночества.
В конце медленно движущейся через лес колонны тянулись с лошадиным
фырканьем повозки хозвзвода. Некоторых ездовых, идущих обочь с вожжами в руках,
я узнал. Разглядел и повара, восседавшего на облучке среди большого кухонного
котла на колесах. Когда, обгоняя, устало бредущих людей, добрался до своего
взвода, услышал, как один из солдат сказал:
- Вон наш лейтенант! А ты
сказывал - потерялся. На что другой голос ответил:
- Видать с соседним
взводом шел...
И от этих рассудительных солдатских слов стало мне хорошо и
спокойно, словно после долгах скитаний вернулся я, наконец, в родной дом!
*
*
*


1944 год. На фронте гремела орудийная канонада. А он,
двадцатилетний лейтенант Владимир Огнивцев, лежал в госпитале в Москве без ног.
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Дорогой Владимир! Шлю Вам привет из маленького нашего городка, на
реке Вятке, из школы, которую так недавно и так блестяще Вы закончили. Вы
спрашиваете, Вы сомневаетесь, помню ли я Вас? Ну, как может учительница не
помнить своих учеников? Хотя перешли Вы в нашу школу прямо
Ведь был это только второй год моей работы в школе после окончания
института, и романтического студенческого было во мне много больше, чем
преподавательского! И то, что была я классным руководителем у Вас, уже готовых
перешагнуть из школы во взрослую жизнь, порой вызывало во мне совсем
непедагогическое чувство растерянности.
Нет, дорогой Владимир, все до ясности помню. И потому после Вашего
письма не могу успокоиться, спазма сжимает горло от бесчеловечных ударов войны.
Не знаю, утешит ли Вас то, что из семи ребят вашего десятого
выпускного, в живых остались только Вы и Толя Крупин, который не попал на фронт
из-за плохого зрения. Из девчат погибла Аня Чемодакова (работала радисткой в
тылу у немцев), Лена Шабанова (сгорела в самолете при боевом вылете). А война
не кончилась. Сколько еще смертей и страданий вбросит она в нашу жизнь!
И все - таки, дорогой Владимир, я рада, что Вы не отчаялись. Если
вы запросили дубликат аттестата об окончании школы, значит, не сломлен Ваш дух,
значит, думы Ваши о будущем. Аттестат высылаю отдельно ценным письмом. И не
скрою: гордилась, заполняя его оценками Вашей успеваемости. Нет, Вы не сникните
перед случившимся несчастьем. С Вами такого не может быть! Вы утвердите себя в
жизни. И верю - жизнь еще распахнется перед Вами своей счастливой стороной.
Помните Фауста:
"Лишь
тот достоин жизни и свободы,
Кто
каждый день идет за них на бой!"
И будет день, когда и Вы, Владимир, сможете воскликнуть: "Остановись
мгновенье, ты прекрасно!"
Крепко жму Вашу мужественную руку. С приветом к Вам,
Ольга
Николаевна, июль,
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Володя! Аттестат, надеюсь, Вы уже получили. А на меня, Володя,
свалилось несчастье: приказали быть директором школы. Да, именно для меня это -
несчастье. Мечтала поучиться в аспирантуре, а из директорства разве скоро
вырвешься?! Учебная работа не страшит, тем более, при таком завуче, как Елена
Ивановна. Помните своего учителя математики?
Вот педагог от бога! Ради школы отказалась от всего, даже семьи не
завела, чтобы не делить надвое энергию своей жизни. Зато как точны и доходчивы
ее уроки! Таких бы несколько учителей на коллектив, как бы возвысилась школа!
Моя нынешняя жизнь - сплошные хозяйственные заботы. Ремонт не
закончен, а учебный год на носу. Ни материалов, ни работников. Кручусь в этих
хозяйственных мелочах до изнеможения, как белка в колесе. А что делать?
Приказали, надо выполнять.
Володя, я поддержала бы Ваше стремление поступить в медицинский
институт. Где-то я читала про известного хирурга профессора Богораза. Он тоже,
Володя, остался без ног, но продолжал делать искусные операции. Значит, такое
возможно! Вижу Вас в белом халате, склонившимся над операционным столом.
Ольга Николаевна.
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володя, в последнем Вашем письме много полезных советов по
хозяйственным делам. Удивляюсь Вашим верным догадкам. Вашему опыту,
накопленному где? - среди огня и смертей?! Это - удивительно! Но зачем эта
ненужная скромная ссылка на то, что вот яйца стали учить курицу? За эти
страшных три года Вы прошли такие университеты, что, честное слово, я
почувствовала себя скорее ученицей, чем Вашим учителем. И это не придумка, не
лесть, это реальность жизни, переоцененная войной.
А в директорских моих заботах появилось и нечто новое, очень и
очень трогательное. Начали учебу начальные классы. И вот уже приводят ко мне в
кабинет малышню - нарушителей порядка. Какие же они забавные! Сначала ни в чем
не сознаются! - головы опустят, сопят... А после двух-трех укоряющих слов вдруг
распахнутся и залопочут. Тут и раскаянье, и слезы! Уйдут из кабинета, а мне и
смешно и почему-то грустно, с такими малышками я еще не работала. Они совсем не
похожи на старших ребят!
Здоровья Вам, Володя, и давайте договоримся - оба не будем
унывать!
Интересно, как идет жизнь в Москве?
Здесь у нас, в городке, рыночные цены резко снизились. На муку,
например, и на хлеб раза в три, по сравнению с зимними. Жить становится легче.
А главное, чувствуется, скоро конец лихим годинам, конец этой страшной, и
хочется верить, последней в истории человечества, войне. Ведь должны же люди
умнеть от страданий!..
С
приветом Ольга Николаевна, сентябрь,
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Володя, Володенька?!
Давно от Вас нет писем. Получили ли Вы мое письмо и ценное письмо
с аттестатом? Если нет, напишите, вышлю еще. Когда получите аттестат, в
нотариальный отдел не обращайтесь, я его не пометила, как дубликат, он у Вас
будет самым настоящим!
Вы писали об операции. Как прошла она?
Пишите. Я тревожусь.
Ольга Николаевна.
сентябрь,
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Дорогая Ольга Николаевна!
Спасибо за все Ваши хлопоты. Аттестат получил, и письма Ваши очень
и очень согревают. Когда прочитал про малышек в Вашем кабинете, сам не знаю,
почему расчувствовался, да так, что даже слез не удержал. Захотелось увидеть
эти повинные мордашки, погладить ласково по головам, шепнуть что-нибудь такое
хорошее, чтоб губки растянулись улыбкой, чтоб глаза прояснели удивлением и
восторгом! Откуда это у меня? Вроде бы не ко времени о таком мечтать!
К операции меня готовят. Это уже третья. Укоротят и без того
короткий оставшийся кусочек левого бедра. И называется это все реампутация. А
первые операции были в лесу, под Витебском, в медсанбате, куда привезли меня с
перебитыми ногами.
В полутьме палатки, ближе к столу, на котором лежал, светили
фронтовые коптилки. Там, где были мои ноги, суетился хирург повторяя:
"Придется, придется, придется..." Что "придется", я уже
знал. Состояние мое было настолько тяжелым, что наркоз давать было нельзя.
Резал и пилил хирург по-живому. А потом в санитарном автобусе, забитом
ранеными, повезли в Смоленск. Водитель боялся дневной бомбежки, торопился
проскочить до рассвета все
Потом железнодорожные теплушки, медленное продвижение к Москве. В
одну из ночей почувствовал что-то неладное, потянулся к культе, пальцы ткнулись
в мягкость раны. Сбилась стерильная повязка, к открытой ране прилипла далеко не
стерильная штанина. Сердце сжалось. Знал, за такую небрежность придется
расплатиться дорогой ценой. Так оно и вышло. Под Москвой, в Наро-Фоминске, где
нас сгрузили, в большом здании школы, оборудованном под госпиталь, началось
общее заражение крови. Удивительное это состояние! Как будто кальмар опутывает
тело липкими щупальцами и медленно сосет, высасывает силы. Тело хочет жить, но
температура возносится едва ли не до 42. Час - два мечешься в лихорадочном удушье,
потом вдруг пот прошибает, и в полном бессилии распластываешься на койке. Не
успеешь в себя прийти, все начинается сначала. Неделя, вторая...
Уже не в силах поднять голову с подушки, с трудом поднятая рука
тут же, как чужая, надает обратно на одеяло. Уже точно я знал: еще день и жизнь
уйдет.
Есть, есть в человеческом организме рецепторы, чутко улавливающие
подступающую смерть! И сознание считывает сигналы этих все чувствующих
биологических точек.
Палату вел молодой врач, не хирург. Присел ко мне на койку, видимо
плохо понимая, что со мной.
Помню, спокойно, очень спокойно сказал ему: "Завтра я умру.
Прошу, сообщите, пожалуйста, вот по этому адресу... Отцу и маме... У меня же
сепсис..." - добавил я.
И тут он по-настоящему заволновался. Пришла сестра со шприцем,
влила мне в вену несколько кубиков спирта, Это был риск: или туда, или сюда...
Трижды повторяли жестокое вливание и... И сознание, вдруг прояснело!
А через неделю появился в палате отец. Всегда он был со мной
сдержан, суров. А тут вдруг приник ко мне и зарыдал...
Отец добился. Меня перевели в Москву.
Извините, Ольга Николаевна. Я не хотел об этом вспоминать. Как-то
само собой получилось. Здесь, в Москве все по-другому. Боль физическую снимать
умеют. Что до нравственных страданий - тут уж, что под силу каждому. Будем
надеяться на лучшее. Успехов Вам!
Владимир,
октябрь,
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Дорогой Володя, Володенька! Не хочу, чтобы разделяли нас ненужные,
надуманные условности. Из ученика ты давно превратился в учителя, и я пишу тебе
"ты", Володенька! И очень прошу тебя так же обращаться ко мне.
Когда, читала последнее письмо твое, боль твоя была – моей болью.
Я считала себя не слабым человеком. Но представила эту темную палатку, тебя
распластано лежащего на столе, и эти безжалостные руки хирурга, я разрыдалась.
Извини, наверное, я не должна была признаваться в этом...
Школу нашу готовим к празднику Октябрьской революции. Настроение у
всех приподнятое. Победные салюты в Москве вдохновляют. А я, Володенька, в этой
праздничной суете вспоминаю майскую демонстрацию 1941 года. Остался ли в твоей
памяти тот солнечный, еще мирный Первомай?! У меня тот день и сейчас перед
глазами: знамя школы было поручено нести тебе. И ты, высокий, сильный,
красивый, идешь впереди колонны, и над твоей головой волнуется тяжелое
пурпурное полотнище, прошитое золотом. И люди, заполнившие улицу, смотрят на
тебя, любуясь, даже восхищенно, и ты, смущаясь обращенными на тебя взглядами,
все-таки неторопливо и твердо идешь впереди, и за тобой, весело с песнями
движется вся колонна нашей школы!
А до войны оставалось пятьдесят два дня...
Ольга.
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька! Операция позади и, кажется, прошла успешно, если не
считать того, что на третий день прорвался шов, хлынула кровь. Паника поднялась
нешуточная! Меня в операционную. Но все обошлось. Оказалась - послеоперационная
гематома. Ничего страшного.
Но прочь разговоры о болячках. Ведь и в нашем страдальческом
госпитальном мире бывают весьма и весьма забавные случаи. Вот один из них,
Оленька. Лежу после наркоза. Доктор похлопывает меня по щекам, чтобы вывести из
потустороннего состояния. С трудом открываю глаза. Все зыбко, предметы
колышутся. Слышу голос доктора: "Наконец-то!". Постепенно начинаю
внимать окружающему. Доктор спрашивает: "Ну, Володя, что заказать Вам сегодня
на обед?".
Правило такое в госпитале: после операции обед готовят по заказу.
И как ты думаешь, что я заказал? Едва ворочая губами, проговорил:
- Картошку в тулупе...
Палата умирала со смеха. А я моргал глазами, не понимая. Доктор
погладил рукой мою голову, сказал, тоже смеясь:
- Будет тебе картошка в мундире...
Правда, смешно?
Володя.
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володя, Володенька! Рада, что и среди страданий вы находите возможность и пошутить, и посмеяться. Но зачем, Володенька, омрачать эти светлые минуты тяжелыми раздумьями о своем будущем? Ты же сам писал: «...тот, кто остался жить, пусть возьмет от жизни вдвое больше, чтобы втрое больше отдать человечеству». Эти твои слова вошли в мою жизнь навечно. Знаю, так надо жить. Хотя сама жизнь очень и очень пестра, человеческие отношения извращены, порой впадаешь даже в отчаянье. На днях вызвала одного папашу, объясняю: если ваш сын не исправит поведение, он будет отчислен из школы. И что ты думаешь, Володя? Вместо того чтобы задуматься о воспитании своего сыночка, он стал уговаривать меня быть снисходительной, и, наконец, предложил подарить... туфельки!
Большего унижения я не испытывала. Не помню, что ему накричала,
помню только, что выпроводила из кабинета. А ведь это управляющий одного из
наших предприятий! Все-таки верю, что хороших людей больше. И ты укрепляешь во
мне эту веру. Так зачем же, зачем же ты оставляешь за собой право так мрачно
смотреть на свое будущее?!
Оля.
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Дорогая Оленька! Ты права, если говоришь о жизни вообще, в ее целостности.
Добра, в ней много больше. Если бы в жизни торжествовало зло, люди изжили бы
самих себя! Но дело вот в чем. В этой огромной всеохватывающей жизни, есть
свои, отдельные, единичные жизни, судьбы которых по разным причинам не
вписываются в координаты Добра. Мне, видимо, уготована такая судьба. Долго не
писал тебе. На это была своя горестная причина. Требовалось время, чтобы
затянулась еще одна рана. Нет - нет, не на ногах - в душе. Оленька, ты,
наверное, помнишь Ниночку, дочку строгого черноусого военкома нашего городка,
которая училась в соседней Первой школе, тоже в выпускном классе? Знала ли ты,
что Ниночка была первой моей любовью?! И когда я уезжал на войну, прощался с
ней, как с невестой. И получал от нее на фронте нежные письма, даже со стихами:
"Полюбила
сокола, самого высокого,
Всем
парням неравного, самого желанного..."
Листочки, исписанные ее рукой, я целовал, и мечтал о том, что
будем мы вместе после войны.
И вот, эвакуированный из Брянска институт, в который она поступила
в 41 году, возвращался теперь на свое место и - через Москву! И Ниночка
выкроила время, вместе с подружкой своей Раей явилась в госпиталь.
Вряд ли, Оленька, ты сможешь представить весь драматизм нашей
встречи. Ведь она знала, что я ранен, но не знала, КАК ранен!
Я ехал по длинному госпитальному коридору в своей коляске, ехал из учебных классов (открыли у нас курсы иняза, и я решил поучить английский), ехал, погруженный в свои мысли, привычно передвигая руками колеса. Вдруг слышу голос сестрички: "Володя, а к Вам гости..."
Взглянул, и - мир покачнулся: передо мной в накинутом на плечи
белом халате стояла Ниночка!
Я весь был открыт, был во всей униженности своего увечья. В эту
минуту должно было остановиться мое сердце! Наконец я отнял от лица руки.
Смотреть на Ниночку был не в силах. Смотрел на Раю. Она стояла поодаль, в
оцепенении, охватив ладонями шею. Ужас и боль были в ее глазах. Я знал, ужас и
боль были и в глазах моей невесты.
Все-таки, Оленька, надо отдать должное Ниночке. Ничем не выразила
она своего отчаяния. Подошла, прикоснулась к моей руке, сказала тихо:
"Здравствуй, Володя...". И в готовности принять все как
есть, предложила: "Давай, я повезу тебя...".
Пока мы катили в дальний конец коридора, в пустовавший в это время
клуб, смятение улеглось. Скрывать было уже нечего. Меня охватило какое-то
нервное возбуждение. Мы уселись все рядышком на широком подоконнике окна, я
что-то, не умолкая, говорил, что-то вспоминал, что-то рассказывал, Ниночка
слушала, поглаживая мою руку, улыбалась своей милой улыбкой, уверяла, как
только устроятся они на новом месте, тут же она приедет в Москву, ко мне.
"И все - все будет хорошо!".
Это ее слова, Оленька, Я был счастлив счастьем возвратившейся
надежды. Лихорадочно искал возможность подтвердить свою признательность Ниночке
за ее верность чувствам, которые когда-то связывали нас.
Попросил Нину и Раю подождать, сам впрыгнул в коляску, покатил к
себе в палату. Собрал в сумочку все гостинцы, которые приносили мне родные и
знакомые москвичи, все деньги, которые скопились от моих лейтенантских зарплат,
упросил Ниночку все это взять, зная, как трудно в дороге и как вообще трудно
всем на исходе долгой войны. Если бы только я мог, я бы на руках донес Ниночку
до Брянска, где теперь предстояло ей жить.
С прошлой незабытой нежностью мы расстались. Долго бы я пребывал в
мечтах, окрыленный надеждами. Но Рая училась и жила в Москве, и стала навещать
меня. Садилась у моей койки, смотрела с каким - то молчаливо-затаенным
сочувствием. На мои нетерпеливые вопросы о Ниночке отвечала неохотно. Меня это обижало,
я даже стал нехорошо думать о самой Рае. Но все, Оленька, в конце концов,
вернулось на места свои.
Однажды, после утомительного молчания Рая сказала: "Нина давно замужем. Ее муж - преподаватель института...".
Вот так, дорогая Оленька. Перед моими глазами проносились
сверкающие трассы насмерть бьющих пуль, в ногах рвались снаряды. Десятки раз
моя жизнь была на волосок от смерти. Но в этот раз бомба разорвалась в самой
моей душе. Не знаю, как выжили, срослись кусочки разорванной души, но душа выжила,
и разум обрел способность мыслить. Ниночке я написал письмо. С горечью, но
поздравил ее с обретенным благополучием. И получил ответ. С явным облегчением
она писала: "Да, да, Володя. Так получилось. И, пожалуйста, не осуждай
меня. В жизни у каждого свои радости. Если мои радости не совпали с твоими -
кого и зачем в том винить! Я счастлива, Володя. Ну, можешь ты порадоваться
моему счастью!"
Вот так, Оленька. А ты осуждаешь меня за то, что я мрачно смотрю
на свое будущее...
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Эх, Володя, Володенька! Голова кругом от твоего последнего письма.
Ну, как помочь тебе изжить боль неправедно оскорбленной души? Как убедить тебя
в том, что эта девочка с суетной обывательской душонкой никогда не согрела бы
тебя счастьем семейной жизни?! Это же очевидно! А ты, умный, много видевший,
переживший, страдаешь оттого, что жизнь расставила все по своим местам! Да
возрадуйся тому, что житейские пули, могущие вонзиться и застрять в твоей
жизни, пролетели мимо! Володенька, дорогой мой человек. Жизнь так огромна. И
такое великое множество людей судьбами своими сплетают животворную среду, в
которой каждый обретает соратников по убеждениям, друга по чувствам, что думать
об одиночестве в этом деятельном мире грешно, по крайней мере, тебе,
Володенька.
Прости меня, Володенька, вот за это нелепое признание, но если бы
мои годы повернулись вспять, если бы вдруг я оказалась на месте этой глупой
девочки, я была бы счастлива, быть твоими глазами, руками, ногами, на себя
брать все твои огорчения, радоваться мыслям, трудам твоим, которые не
сомневаюсь, тебя ждут.
Прости, Володенька, не сдержалась. Но только больно стало за твое неверие в себя!
Знаешь, Володенька, недавно я услышала одну "сердечную"
историю. Историю двух личностей, то, что случилось, совершенно меня не касалось.
Но даже услышать про чужую безнравственность было тяжело. Эти самовлюбленные
личности разбили две семьи, втоптали в грязь само человеческое достоинство!
Долго не могла успокоиться... И решила перечитать Тургенева. Читала с
восторгом, со слезами отчаяния и радости. И успокоилась тем, что были и есть в
жизни прекрасные сердца Инсарова, Елены, Лизы, Лаврецкого. И твое, Володенька,
прекрасное и такое ранимое сердце!..
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Дорогой Володенька! Почему так долго молчишь? Я вся истерзалась. Думаю,
уж не обидела ли тебя своими откровениями?..
Знаешь, когда я вхожу в бывший ваш класс, смотрю на последнюю
парту у окна, где сидел ты, всегда такой серьезный, сосредоточенный, ловлю себя
на странном желании: вновь, воочию, увидеть тебя за той партой!
Сколько недоговорено, столько в судьбах своих учеников мы не сумели
предвидеть!.. Интересно, говорила ли тебе: когда в середине учебного года ты
впервые пришел к нам в 9-й класс, многие признали тебя за инспектора. Таким
взрослым ты выглядел! Никто не говорил тебе об этом?.. А как удивило класс,
когда ты вызвался рассказать о теории разумного эгоизма, по роману
Н.Г.Чернышевского " Что делать?"…
Помнишь ли? Ты говорил, что разумный человек может и должен спокойно, осмысленно разрешать даже такие сложные, казалось бы, не поддающиеся разуму, проявления жизни, как взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ты был сдержан, логичен, когда анализировал поступки Лопухова и Кирсанова. Но как запылало твое лицо, когда заговорил ты о Рахметове! В Лопуховско-Кирсановском эгоистично-разумном "я" ты увидел лишь первый шаг к человечности. Рахметовское же полное самоотречение от "я", замена личного "я" смыслом революционной борьбы за справедливость для всех ты обозначил, как высшее проявление человечности. И говорил с такой убежденностью, что нельзя было не восхититься тобой. Я видела это по напряженным лицам всего класса, слушавшего тебя, и сама восхищалась и гордилась тобой!
Володенька, посмотри же и на горести, случившиеся в твоей жизни, с
познанных тобой высот человечности!..
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька, а у меня опять беда. На этот раз, пожалуй, самая
серьезная: хотят отрезать единственную оставшуюся коленку! Если это случится,
надвинется полная беспросветность. Это пожизненные костыли, невозможность
подняться по лестнице даже на несколько ступенек!
Не думал, что и среди врачей бывают особи с ледяными сердцами. А
вот явилась некая дама - консультант (хорошо еще не нашего госпиталя!), которая
спокойно изрекла убийственный для меня приговор, да, знаю, вижу, ампутационная
рана затягивается медленно, но все-таки затягивается!..
И неужели трудно понять, что в коленке - все мое будущее! Поглядел
я в холодные глаза дамы, наверное, выразительно поглядел.
Дама усмехнулась: "Ходить все равно не сможете...".
- "Посмотрим!" - сказал я и уехал в палату.
Оленька, зато в другой, духовной моей жизни, что-то засветилось. В
долгих стараниях родился первый мой рассказ, рассказ о долге и чести молодого
офицера. Что получилось, не ведаю. Показывать - страшусь. Ведь в этом, вдруг
призвавшем меня влечении тоже, может быть, проглянуло мое будущее?!..
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володенька, дорогой! Знаю, знаю по себе, что нет в жизни ничего страшнее людей с ледяными сердцами! А если такое сердце у врача... Хотелось бы встретиться с этой бесчувственной дамой! Уж я бы добралась до ее совести, если, конечно, хоть капля осталась там, на дне ее бездушия! Отстаивай, Володенька, даже самую малую возможность своего будущего, каждый сантиметр своего живого тела, каждое стремление неспокойной своей души! Знаю, верю, в тебе заложена жизненная сила, такая великая, что сломать ее не смогут никакие ледяные сердца!
Поверь в это, как верю я. Не знаю, вправе ли я, именно теперь,
напомнить один из дней, опять-таки того трагического 41 года. Еще мирного,
светлого, июньского, когда на объявленных областных соревнованиях по легкой
атлетике ты бежал на километровую дистанцию, защищая спортивную честь школы. Я
знала, ты упорно готовил себя к этому событию. Но когда увидела тебя на стадионе,
легко, стремительно, прямо-таки с оленьим напором несущегося по гаревой дорожке
намного впереди всех других и заслуженно победившего, подумала, еще и еще раз
гордясь тобой: нет в мире дороги, которой бы не осилил! Ты и тогда умел
добиваться любой поставленной перед собой цели. Прости, Володя, если это
воспоминание в какой-то мере окажется огорчительным. Но сила преодоления,
заложенная в тебе, ни при каких обстоятельствах не должна оставить тебя!..
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володенька, знаешь, о чем я все время думаю? О человеческих радостях.
Именно человеческих. Ведь немало людей, которые удовлетворяются растительным,
лучше сказать, животным существованием. Интересы их замкнуты в одном кругу, не
выходят за пределы ежедневных насущных забот: где-то что-то достать, с нужным
человеком познакомиться, поскорее уйти от общих обязанностей в свой тепленький
уголок. Жалкие людишки! Жалко их за бедность душ, в которых не находят места ни
радости познания, ни раздумья о смысле жизни, ни музыка, ничего из того, что
веками творили гении человечества. Есть же духовные вершины, к которым
постоянно должен стремиться человек! Не могу представить жизнь без
художественной литературы, особенно без нашей русской классической литературы.
А музыка для меня как воздух, которым невозможно надышаться. Люблю все: от наших
русских напевных грустно-светлых народных песен до великих созданий Глинки,
Чайковского, Рахманинова. Когда по радио вдруг услышу пятую симфонию
Чайковского, бросаю все, сажусь, закрываю глаза, сжимаю лицо ладонями, будто
меня нет! Во мне только музыка, и сама я, как будто вся из музыки! В этой
симфонии всемогущий рок вдруг оборачивается торжествующим жизнеутверждением!
Как же можно,
Володенька, жить и не ведать истинно человеческих радостей!?
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька, после твоих вдохновенных слов об истинно человеческих
радостях я снова почувствовал себя учеником. Симфонии, потрясенность от великих
музыкальных творений, по всей видимости, у меня еще впереди. Свои печали пока
утоляю полюбившимися, фронтовыми песнями, да оперными ариями, тем, что есть в
записях на пластинках. Родные по отцовской линии, живущие в Москве,
пожертвовали свой патефон - радость для всей нашей палаты несомненная. Слушаем
по утрам и вечерам. Чаще всего завожу Лемешева, с тоскующей арией: "Куда,
куда вы удалились, златые дни".
Вот книги, те постоянно в руках. Заново вчитываюсь в Пушкина,
Толстого, Тургенева, "Братьев Карамазовых", открывая душевные
тонкости, которых не ведал прежде. Свойство русской классики - не раскрываться
сразу, до донышка. Всегда что-то еще остается там, в глубине. Ну, а в буднях
борюсь за свое будущее. Упрямо, каждый день, как когда-то на тренировках по
бегу, принимаю парафиновые процедуры, и - боюсь верить! - но рана
затягивается!..
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Дорогой Володенька! Только что вернулась с ученического вечера,
посвященного Грибоедову. На часах
Вечер, как всегда, завершился танцами. Как молодость любит танцевать! Едва заиграет баян, все выходят в круг. В невыносимой тесноте танцуют. И всем весело! Я не танцую. Только смотрю на ребячье веселье, но удовольствие испытываю не меньшее, чем они. Сидишь, наблюдаешь, думаешь. Ведь вполне возможно среди этих, пока безвестных ребят, радующихся сейчас малой радостью, будущие Грибоедовы, Чеховы...
Ведь далеко не сразу, совсем не сразу, обнажаются золотые россыпи
юных душ! Я, Володенька, не могу не думать о тебе. Живет, утвердилась во мне
неколебимая вера, что быть тебе гордостью не только школы. Да, ты уже гордость
всех тех, кто понимает, что такое мужество!..
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Дорогой Володенька! Только что вернулась домой, смотрела картину
"В
Ох, Володя, оказывается, как мало я еще знаю. Что-то насочиняла о
наших отношениях. И не дописала всего. Ты, наверное, истерзал себя думой, что
все девушки такие же, как твоя глупенькая Нина. И в моем отношении к тебе ты
разглядел далеко-далеко не все. Увидел во мне утешителя и только.
Володя, дорогой, Володя, так нет же! Нет! Это совсем не так! Если
я так сдержанна, то имею в виду только разницу лет и больше ничего!..
Для меня дорога наша дружба. Духовная близость, которая
обозначилась в нашей переписке, обернулась для меня не только радостью, но и
надеждой. Да, и надеждой, Володенька. Надеждой, что не уйдет из моей жизни
умный, честный, мужественный человек, что ободряющим теплом твоей души я буду
согреваться, всегда, пусть даже издалека! Даже этого было бы мне достаточно.
А ты, Володенька, встретишь такую же молодую, как ты, заботливую,
любящую тебя девушку. И будет у вас все хорошо. Все будет хорошо. Володенька,
милый мой человек!
Вот так подействовала на меня эта картина! Как будто раздвинулись
стены и дали, и я увидела мир, в котором ты сейчас живешь, Володенька!
С праздником тебя, мужественный защитник нашей великой страны!..
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька! Фильм, который тебя взволновал, мы смотрели всем госпиталем. Палаты опустели. В большой клубный зал втиснулось столько людей, что некуда было ставить костыли. Коляски стояли впритирку друг к другу…
Лежачих приносили на носилках, укладывали прямо на пол перед
первыми рядами. Ведь там, на экране, была судьба каждого из нас, герой-артиллерист
выходил из госпиталя на костылях! И каждый хотел увидеть, предугадать, что
будет с ним " В
И все же, больше чем фильм, согрело твое письмо, Оленька. Из
прочувственного твоего смятения, теплота перелилась в мою душу. Спасибо за веру
в меня. Пока есть надежда, пусть призрачная, но все же надежда, не так страшит
даже самое страшное, что может еще быть!
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Дорогой Володя, Володенька! Вот и пришел победный долгожданный
май! Какая радость, какое веселье захлестнули наш маленький городок! И стар и
мал, высыпали из домов на улицы. Песни, ликующие крики. Играют гармошки. Кто-то
пляшет прямо посреди улицы. На лицах радость и слезы. И над людьми, над, всей
землей, чистое синее небо и слепящий свет весеннего солнца.
Вечером учителя все вместе собрались в школе. Порадовались,
повспоминали. Помечтали о будущем. Домой пришла. Перечитала письма двух
погибших моих братьев. Достала альбом с фотографиями, с грустью пересмотрела их
жизнь и свою, такую еще короткую жизнь!
Потом, Володенька, перечитала все твои письма, с первого до
последнего! И грусть моя посветлела. Мыслями перенеслась в Москву, представила
тебя, лежащего на госпитальной койке, почему-то с закинутыми под голову руками.
Ты лежишь, взгляд устремлен в бесконечность, о чем-то сосредоточенно думаешь. О
чем думаешь, дорогой Володенька?!
Если бы не тысяча верст, нас разделяющих, каких хороших слов
наговорила бы тебе! Бумага не передает живого трепета души. Когда смотришь в
глаза, слово обретает особый смысл...
Володенька, ты не нуждаешься в деньгах? Я бы поделилась. Напиши.
Так жду твоего письма!
Твоя
Ольга.
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька! Боюсь верить, но, кажется, и в мою госпитальную жизнь
проник лучик солнца. Появился у нас молодой, энергичный, внимательный хирург.
Осмотрел мою страдальческую ногу, поймал мой тревожный взгляд, сказал, положив
руку мне на плечо: «Что ж, будем оперировать! Коленка останется при тебе!».
Я поверил ему, Оленька! Сейчас усиленно готовят к операции:
ежедневный массаж, анализы и прочее, прочее. Уже пятая операция! А сердце все
равно сжимает холодок. Когда кладут на операционный стол, накладывают на лицо
маску, и сладкоудушающий эфир начинает туманить сознание, я мысленно прощаюсь с
жизнью, - ведь на несколько часов отправляют меня в небытие! Наверное, это -
слабость. И все-таки не могу избавиться от грустно-покорной мыслишки, что
отправляюсь в небытие навсегда... Все это особенности госпитальной жизни. На
фронте - другое. Там, если уж смерть, то мгновенная. Ее не успеешь осознать.
Здесь же мучительно само ожидание. Прости, Оленька, я, кажется, слишком
разговорился, и совсем не о том. Все будет хорошо, Оленька. Все будет хорошо! И
мы с тобой еще о многом поговорим!..
Поругай меня, хотя бы мысленно. Говорят, это помогает...
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володя, дорогой Володенька! Ну, как я могу тебя поругать?! Даже представить не могу: я — и вдруг произношу недоброе слово о тебе. Не верю ни в Бога, ни в черта, но молюсь про себя за благополучный исход твоей, надеюсь, последней операции!.. Ты должен жить, Володенька. Жизнь только - только распахивается перед тобой. Она ждет тебя. И будешь творить доброе, вечное и будут у тебя простые радости бытия, и любовь окрыляющая, и уважение людей. Ты умеешь облагораживать все, к чему ты прикоснешься. Это говорю тебе я, бывший твой учитель, а теперь твой друг, верный твой человек, Володенька!
Сердце подсказывает, что операция уже прошла, и ты уже в полном
сознании. Я даже слышу, как после операции, на вопрос врача, что приготовить
тебе на обед, ты снова просишь «картошку в тулупе». Володенька, когда мы
встретимся, хочу, я верю, что мы обязательно встретимся, я приготовлю тебе
шикарную картошку в мундире. Самую лучшую, самую рассыпчатую!..
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька, все позади. Сегодня день второго моего рождения -
привезли протезы, другие мои ножки. На них мне предстоит ходить - передвигаться
всю оставшуюся жизнь!.. Не могу, Оленька, передать состояние от ворвавшейся в
меня эмоциональной бури, когда пристегнули мне мои новые ноги, и я встал.
Встал! И, подпираясь костылями, пошел по коридору. Пошел, Оленька! За два года
распластанности впервые снова взглянул на мир с высоты человеческого роста. И
потрясенность оттого, что вернулся, снова вернулся в человеческое состояние,
была столь велика, что я не смог удержать слез. Стоял у распахнутого окна,
смотрел на вершины кленов, шелестевших зелеными широкими листьями, и слезы от
преодоленной беды, от возвращения в мир человечности, текли по лицу. И я не
стыдился, Оленька! Это были хорошие слезы... О доме думаю уже, Оленька. Меня
там ждут. И отец и мама...
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володя, Володенька! Не меньше, чем ты, радуюсь твоей радости!
Первые шаги по госпитальному коридору - это твои шаги в деятельную жизнь. Так
пусть же она будет щедра для тебя всеми радостями, которые знал ты в своей
юности!.. А я, Володенька, вся в школьных заботах. И все в них вперемежку,
огорчений, пожалуй, больше. Но давай говорить о радостях. Пусть маленьких, но
все же радостях. Ведь человек создан для радостей, правда? Хочу поведать тебе
одну историю, вернее, судьбу ученика Лени. Когда он учился
Ни одна драка не обходилась без его участия. Учительский коллектив
возмущенно ставил вопрос об исключении его из школы. Я не решалась. Что-то меня
останавливало. Ведь исключить - значит, навсегда отослать его на рынок. Но,
главное, за вызывающей дерзостью мальчишки проглядывало какое-то, не всем
видимое, детское отчаянье. Я знала, что родители его старые и очень больные. И
вот, когда он учился в 6-м классе, умер у него отец, вскоре и мать. Леня
остался один с сестренкой помладше его. Вот трагедия маленькой жизни!
Школа, разумеется, взяла на себя посильную заботу о сиротах. Но
главное - произошло нечто в Лене. Как будто пробудился другой, до сих пор
дремлющий в нем человечный человечек. Пробудился и вытеснил того, прежнего,
безответственного сорванца. Со страхом следила за переменами в нем, боясь
поверить. Но чудо возвышения произошло! Он стал учиться на одни пятерки! Сейчас
Ленечка - гордость школы. Готовится к выпуску. И хочет учиться дальше. Вот,
Володенька, в такой судьбе - высшая награда учителю за его беспокойный, не
всеми видимый труд. Все думаю: лучших из лучших война навсегда увела от
созидательных дел. И тебе, Володенька, предстоит на себя взять недонесенную ими
ношу. Кому, как не тебе врачевать, возвышать души тех, кто слышит, мыслит, кто
стремится к человеческой жизни!..
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Оленька! После твоего письма задумался, почему твои радости,
радости Учителя, волнуют меня, может быть, даже больше, чем свои?
Что это - родство душ? Или так мы прониклись жизнью друг друга, что уже не мыслим себя по отдельности? Вот сумела ты разглядеть в, казалось бы, беспутном сорванце будущего человека. Радуешься его судьбе. И я радуюсь за него, но еще больше - за тебя! Ты, Оленька, скромничаешь. Не только случившееся сиротство, вдруг проснувшаяся ответственность за свою сестренку изменили твоего трудного ученика. Он же не мог не почувствовать в тебе защитника! Знаю, по своей жизни знаю, как слово, одно лишь верное, убежденно и в нужный момент сказанное слово, может изменить человека и его судьбу! Такое слово нашла, сказала ты, Оленька, ты Учитель от Бога. И не один Ленечка в сыновьях у тебя.
Сколько девчонок, мальчишек по-матерински воспитаны тобой! Склоняю
голову перед тобой, Оленька!..
О себе страшусь говорить. Кажется, что-то определяется и в моей
судьбе. Как не удивительно, но судьбу мою тоже определило слово! Мои
литературные, госпитальные опыты обернулись неожиданным финалом. Рассказы
прошли творческий конкурс, я зачислен, Оленька, в Литературный институт! Не
заоблачные ли силы определили именно литературную мою судьбу? Выбирал-то для
себя другую дорогу! И радостно, и даже как-то жутко, словно перед прыжком с
высокого трамплина. Чью судьбу предстоит мне повторить - судьбу Павки Корчагина
или судьбу Мартина Идена? Ведь литература - это сотворение человека?! Дано ли
мне исполнить столь высокое предназначение?!
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА
Володенька, дорогой! Я напросилась на учительскую конференцию в
Москву! Боюсь верить в такую возможность. Но если удастся, не будет человека
счастливее меня - ведь мы встретимся!..
ПИСЬМО ИЗ ЛЕСОВ ПОДМОСКОВЬЯ
Дорогая Оленька! Наконец-то я дома, если можно назвать домом
половину деревянной избы, где есть у меня свой закуток с постелью и маленьким
столом. На столе учебники, бумага. Здесь, в тиши закутка, роятся мысли, мечты
прокладывают, пока зыбкую заоблачную дорогу к моему далеко еще не ясному
будущему.
Пристанище наше временное. Отца перевели ближе к Москве, в большое подмосковное лесничество. Там, в поселке, ставят дом, куда мы потом переедем. А пока... Пока возвращаю себе то, что, казалось, утеряно, навсегда. Прежде всего, дороги, окрестные луга, поля, перелески. Костыли отбросил. Стараюсь ходить бодро, опираясь только на палочку. Километр для меня уже не предел, и радость преодоления пространства живит душу!
Прежде не мыслил земного своего бытия без охоты. Наши вятские
лесные дебри еще до войны избродил с ружьем вдоль и поперек, внимая птичьей и
зверушечьей жизни. И вот теперь... Теперь почувствовал возможность вернуть даже
эту юношескую страсть. В лесничестве оказался конь. А на фронте приходилось
лихо скакать и на конях! Сохраненная коленка дала возможность вкладывать протез
в стремя, держась за луку, вскидывать себя в седло. И вот уже четыре конских
ноги на десятки километров раздвинула для меня лесные просторы! Научился даже
прямо с коня стрелять по взлетевшей птице. Мечтаю зимой встать на лыжи. А уж
стол с книгами, бумагой, пером и мыслями - духовная моя жизнь - даже в ночи не
отпускают меня.
Вот, Оленька, начало новой моей жизни. А мне уже 22 года! И
будущее чистым листом передо мной. И должен я заполнить этот чистый лист
мыслями и делами. А одиночество все-таки томит, ждешь и ждешь чего-то...
Знаешь, Оленька, наткнулся я на одну из записей Петра Ильича
Чайковского. Он пишет: «Мне уже 44 года, и ничего серьезного я еще не
сделал!..»
Сказано это, когда были уже и "Лебединое озеро",
"Евгений Онегин". Какая беспощадная самооценка! И какая
неудовлетворенность содеянным сравнительно с ощущаемой в себе творческой мощью!
И он сумел в оставшиеся 10 лет жизни воплотить свою творческую мощь в такие
бессмертные шедевры, как Пятая и Шестая симфонии, "Пиковая дама", в
так любимый тобой "Щелкунчик"!
Дело, видимо, не в протяженности лет! Важна концентрация
творческой энергии в малом пространстве времени! Значит, возможно, что-то
сделать, даже если отпущено тебе на жизнь не так уж много деятельных
годочков!..
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА,
ПОСЛЕДНЕЕ
Володя, Володенька! Наконец-то я добралась, увидела тебя в яви,
красивым, сильным, каким ты всегда жил в моем воображении!
Тысячу разделяющих нас километров преодолевала в сомнениях, в каком-то даже отчаянье и в нетерпении увидеть тебя. И вот увидела... И все тайные глупые мои надежды рухнули при первом же взгляде на тебя!
На твоем милом лице увидела я смущение, растерянность, увидела
как, почувствовав мой радостный порыв, ты сжался в робости. А мне так хотелось
прижаться к тебе, у тебя на груди спрятать свое лицо, уловить теплоту твоих
губ!
В то мгновение, когда, преодолевая смущение от неожиданного моего
появления, ты протянул руку и сказал:
- "Здравствуй, Оля!" - я поняла, какая неодоленная стена
по-прежнему разделяет нас. Потом, уже на обратном пути, с горькой усмешкой я
думала об этом первом мгновении. Ты снова увидел во мне учительницу, и смущение
твое было смущением ученика. О, как прочно внедряются в нас всякие житейские
условности!
Как легко, упоительно любить человека издалека, в своем
мечтательном воображении! И как мгновенно все осложняется, когда любимый
человек перед тобой, глаза в глаза. Вот он, протяни руку и ощутишь живую его
плоть. Ан - нет! Ну почему так, Володенька?
Духовная близость, и близость человеческая, земная, нареченная
почему-то грешной, - разве не две стороны одного человеческого бытия?
Разве не взаимопроникающи они? Разве человек не может возвышаться
в их единстве?
Потом, когда смятение твое улеглось, ты позвал пройтись но лесной
дороге. Где-то на бугорке, под большими березами, мы сели друг против друга. И
ты спросил, почему я до сих пор без семьи. Ты представить не мог, какой болью
отозвалась во мне твои слова! Я смотрела на тебя в охватившей меня немоте,
глаза мои, наполненные слезами, кричали: "Да пойми же ты,
Володенька!"… Но ты был сдержан, как прилежный ученик. Ни единой
теплиночки из тех чувств, что прорывалась в твоих письмах, я не могла уловить!
Неодоленная стена: учитель - ученик, стояла между нами.
Помнишь, что ответила я? С каким - то вызовом сказала:
"Хорошего человека не нашла!"…
Я вглядывалась в твои глаза, пыталась взглядом уже
почувствованного отчаяния растопить давно уже изжившую себя школьную
условность. Увы, Володенька, ты не смог, или не захотел понять меня.
А ведь из дальней дали я рвалась к тебе в ослепительной мечте. Я понимала разницу наших лет. И ни в чем не хотела, Володенька, связывать тебя. Хотела лишь одного. Я хотела ребеночка, от тебя хотела сына, дочку - все равно! - но только от тебя, Володенька!
Я бы все сама: и вырастила, и воспитала. Сын или дочь выросли бы
достойными твоего имени, в какой бы высокий ряд других имен твое имя не
вписалось. Я бы все сама, сама, Володенька. Ничем не обязывая тебя, ни в чем не
утруждая, дала бы миру хорошего, на тебя похожего человека!
Такой вот мечтой думала согреть свою жизнь. Увы, мечты
осуществляются только в воображении!
Прощай, мой друг, любимый мой Володенька. Я все же рада, я все же
благодарна судьбе за то, что в моей жизни был ты!..
Ольга.
*
*
*

- Ну-с,
присаживайтесь. Блокнотик уберите, всякая запись отягощает общение, не столь
важно слово, сколько то, что укрыто за словом.
Гендиректор откинул тело на спинку подвижного кресла, повернул
себя влево-вправо, полуприкрыл веками глаза, что придало его лицу сонное
выражение.
- Шеф назвал вас человеком умным, весьма полезным, перед
проницательностью шефа я приклоняюсь. И все же беру на себя смелость спросить:
заинтересованность его вашей карьерой, случайно, не исходит из родственных
чувств? - Овальная голова с просторной, льдисто отсвечивающей пролысиной и
островками жестких волос над настороженными ушами, выжидательно застыла в
покатых, по-детски узких плечах.
Собеседник, обликом своим напоминающий интеллигента-гуманитария, неловко согнулся в полукресле, стеснительно потер торчащие худые колени, подтвердил не без смущения:
- Лишь отчасти. Изъявлено общее семейное желание устроить мою
судьбу.
Удовлетворенный собственной проницательностью, гендиректор
соединил в полупоклоне свои короткие руки, предложил:
- Чашечку кофе? Коньячку?..
От коньяка и кофе собеседник отказался.
- Ну, что ж, исходить будем из воли нашего шефа. Как человек
умный, вы, надеюсь, имеете общее представление о направленности нашей работы? И
все-таки, для предстоящего вам дела, я просто обязан ввести вас в систему наших
координат. Откровения вас не пугают? Прекрасно. Итак, - гендиректор поднял
глаза на вмонтированные в стену электронные часы.
- В нашем распоряжении тридцать восемь минут. Начнем? Должен сразу
предупредить: из всей многоохватной деятельности вам необходимо уяснить
главное, - наша информационная империя не призвана напрямую взламывать
экономические и финансовые основы общества. Задача наша сложнее и, так сказать,
деликатнее. Мы призваны изменить сознание масс! - Гендиректор сделал паузу,
глаза из-под полуприкрытых век внимательно наблюдали собеседника.
Кандидат на ответственную должность не отреагировал должным
образом на основополагающую установку, лицо гендиректора несколько
притемнилось. Он извлек из массивной кожаной папки, пачку бумаг с четким
компьютерным набором. Весомостью скрепленных листов, подкрепляя свои слова,
сказал:
- Мировой исследовательский центр, обеспечивающий деятельность
наших информационных служб, представил любопытную разработку. Не приходилось ли
вам задумываться, в чем сила и, скажем так, историческая устойчивость любой из
существующих на земле наций?
Вопрос, как говорилось в былые времена, на засыпку. А суть проста. Могущество нации накапливается при определенных условиях. А именно: когда опыт предшествующих поколений необходимо переходит в деятельность потомков. Могущество страны под названием Россия питалось именно восприимчивостью каждым, вновь нарождающимся, поколением опыта, нажитого прадедами, дедами, отцами. Земледельчество, к которому причастно было почти все население, способствовало выше названному фактору. Строгая цикличность крестьянских работ, в которых совместно участвовали деды, отцы, дети, внуки, выковывали, так сказать, нравственную цепь векового опыта жизни. Слитность жизненного опыта помогала россиянам в отстаивании привычных условий жизни, давала духовные силы выстаивать в сложнейших, казалось бы, непреодолимых катаклизмах. Что следует из выше сказанного?
А следует то, что в былые времена называлось руководством к
действию. Нам надлежит разорвать цепь исторической преемственности. Вопрос:
как? Возвращаемся к главному. Где накапливается жизненный опыт нации? В
сознании миллионов индивидуумов, в деятельных клеточках мозга. Необходимо
освободить мозг электората от догматической веры в закономерности жизненного и
общественного развития, возбудить в сознании эклектический
хаос, где есть множество начал и нет завершения. Иными словами: человеческую
нравственность, накопленную стараниями веков, опустить на первичный
физиологический уровень. Отучить население мыслить самостоятельно. Информацию,
продуманно приготовленную нами, люди должны потреблять на уровне подсознания.
Гендиректор прервал свою речь.
- В ваших глазах вижу нечто похожее на вопрос, прошу озвучить ваши
мысли, - сказал он, выкладывая на стол обнаженные до локтей руки.
Кандидат на ответственную должность в растерянности заверил
наставника в полнейшем своем внимании. Но зрачки, будто сонных глаз гендиректора,
сузились до острия иглы.
- Прошу озвучить ваши мысли! - повторил он.
- Мне подумалось... - осторожно проговорил кандидат на
ответственную должность. - Мне подумалось, что человек не может не мыслить!
Даже на уровне подсознания мозг оценивает все, что попадает в сферу его
восприятия. Возможно ли живую деятельность мозга перевести на уровень
полнейшего бездумья?
Пальцы гендиректора выбили по столу энергичную дробь.
- Возможно. И необходимо, - резким движением он придавил ладонь к столу. - Например: наемная американская армия. Солдат не рассуждает, солдат исполняет. За исполнительность получает доллары. Доллары обеспечат ему радости физического бытия. Если это возможно в части общества, применимо и к обществу в целом. Но мы отвлеклись. В сознании россиянской нации необходимо разорвать не только скрепы вековых устоев. Есть нечто более насущное. Судя по вашему возрасту, вы испытали на себе воздействие советской общеобразовательной системы. Диамат, истмат, взаимосвязь явлений, железные закономерности развития и прочее, прочее. Большевики, как известно, многое порушили в исторических скрепах России.
Одной коллективизации, разорвавшей вековые традиции
земледельчества, было бы достаточно, чтобы нация превратилась в простое людское
скопище. Они не побоялись взяться еще за индустриализацию.
Оторвали от земли треть крестьянства, вогнали вчерашних вольных
землепашцев в заводские и фабричные стены. Уничтожили скрепы религиозного
послушания. Возник благоприятнейший исторический момент: Россия - в хаосе,
народ - в полнейшем неведении своей судьбы. Россия была бы поставлена на
колени, если бы... Если бы мировым сообществом вовремя была просчитана личность
явившегося во власть вождя. Созданная Сталиным тоталитарная государственность,
стальным обручем охватила растерянное народонаселение. Но разорван был бы и
стальной обруч, если бы не достало отцу народов исторической проницательности.
Он не стал сцепливать куски разорванных вековых традиций. На этом потерял бы
время и власть. Он выбрал иной ход, и ход этот снова превратил народонаселение
в нацию, догадываетесь, каков это был ход? Да, да. Та самая идея справедливого
будущего, многократно опробованная в истории человечества. К сожалению, на этот
раз в реальных контурах осуществленная. Идея справедливого будущего, с опорой
на всеобщее образование умов, позволила ему овладеть сознанием масс. Вера в
незыблемость исторических закономерностей, якобы работающих на коммунистическую
идею, утвердилась. Дала возможность на иной основе и на некоторый исторический
период возродить национальную, духовную, и не только духовную, мощь страны…
- Таков вкратце
исторический обзор, предваряющий наши действия в изменившихся современных
условиях.
Итак, особое внимание к советскому периоду. Вернее, к сознанию
электората, в свое время сориентированному на упомянутую выше идею. Но прежде,
чем вести разговор о практической стороне предстоящего дела, не могу не
привлечь ваше внимание еще к одной философской мысли.
Человеческое сознание в XX веке, тем более в веке XXI становится силой, определяющей устройство всей земной цивилизации. Это поняли материалисты марксистского толка еще в начале нашего века и выдвинули почти идеалистический постулат: сознание не только отражает действительность, но и творит её. Улавливаете поворот, казалось бы, сугубо материалистической философии? Советский период практически доказал творящую силу сознания. Подобную практику должно разрушить. Электорату оставим одну лишь функцию сознания - функцию отражения бытия. Мы будем неотступно переписывать историю в умах, где она записана предыдущим образованием. История должна подтверждать приоритеты предлагаемого нами устройства жизни.
Гендиректор приоткрыл тяжелый переплет, вложил с видимым почтением
бумаги в папку. Два вытянутых пальца приложил к щеке, как бы прощупывая занывший
зуб, в то же время внимательно наблюдая за собеседником.
- Вы опять, мне кажется, в сомнении? - проговорил он на этот раз с
полупрощающей улыбкой. - Сомневаетесь в самой возможности переориентации
устоявшегося сознания электората? Напрасно. От советского тоталитарного времени
досталось нам неплохое наследство - слепая вера населения в правдивость и
могущество информационного слова. На этом наследстве возможно многое. И, прежде
всего, добиться, чтобы любое утверждение, произнесенное с экрана телевизора или
озвученное радиоголосом, воспринималось, как нечто, не подлежащее сомнению.
Футболом, случайно, не увлекаетесь? Нет? Странно для нынешнего
тотально игрового времени: "Поле чудес" с его примитивным азартом;
молодежные "кавеэны" с их раскрепощенностью,
от всего святого; "Что, где, когда?", - передача, сумевшая, в конце
концов, эрудицию сделать предметом денежного торга, игровые дискотеки с женским
и мужским стриптизом; "русское лото" и прочее, прочее, - все это
разработки наших служб для различных слоев электората. Разработки разные, цель
- одна, - вложить в подсознание установку: жизнь-игра, благополучие, богатство,
слава - счастливый случай. Не пропусти!
Пухлые губы гендиректора приоткрылись, из них как будто вывалился
короткий смешок; блеснули два ряда крупных золотых зубов.
- Но вернемся к футболу. Вернее, к аналогии с футболом. Сознанием
людей мы должны овладевать, как футболист высочайшей квалификации овладевает
мячом. Он проводит его через все поле, искусно преодолевая наскоки и подкаты
противника, выходит к воротам и вбивает мяч в сетку мимо вскинутых рук вратаря!
Сравнение, разумеется, несколько условно, но суть одна!
Вам надлежит приложить свой ум, свое старание к общему для всей
команды финальному голу. Должен сказать, что в вашем подчинении будет много
людей разных убеждений. Убеждения – не ваша компетенция. Важна продукция,
которую они будут поставлять. Вам предстоит овладеть информационным полем,
нацеливать информационные выплески в наиболее уязвимые точки сознания
многомиллионной аудитории!
Гендиректор немигающим взглядом смотрел в напряженное лицо собеседника, стараясь уловить ход его мыслей, невозможно было понять, удовлетворен ли он внимающим ему человеком.
Но он помнил, что сидит перед ним не безвестный проситель со
стороны, потому, неопределенно вздохнув, полуприкрыл свои острые глазки сонными
веками, сказал примирительно:
- Несколько слов о технологии предстоящего вам дела. Возьмем язык,
носитель праправековой информации.
Предположим, что русский язык, по выражению светского льва
Тургенева, дан великому народу. Но поскольку историческое величие народа этой
страны осталось в прошлом, то и предстоит именно нам справлять тризну по былому
его величию. Мы должны найти способ трансформировать сам язык. Какой-то классик
прошлого века одарил мир открытием, что русский человек мыслит слов творением,
тем самым постоянно обогащая язык, придавая ему вечную живучесть. Способность к
творению языка необходимо вытеснять из практики. Электорат надо приучить
объясняться деловым, прагматичным языком, с весьма ограниченным запасом слов,
достаточным для обслуживания потребностей каждодневного существования. Побольше
вводить интернациональных терминов, они разрушают почвенность языка,
следовательно, и само мышление. Думаю, через десяток лет, удастся обучить
электорат мыслить, хотя бы примитивно, по-английски.
Как известно, хранителем языка является национальная классика.
Здесь нужна довольно плотная опека. Надеюсь, вы понимаете, что на этом
направлении должны находиться люди гибкого ума, способные извлечь из классики
то, что для советских времен не было удобоваримым? Саму классику, например
музыкальную, полезно давать с многословными комментариями, помня, что нам нужна
не музыка, а болтовня о музыке. Слушатель не должен углубляться в
облагораживающие классические мелодии. Трансляцию классики полезно завершать
каким-либо энергичным шлягером, чтобы сбить возвышающий настрой. Вообще, эфир,
почти полностью, мы отдаем разного рода ансамблям, рок-поп группам, которых
достаточно расплодилось за годы нравственной свободы. Все подобные ансамбли
делают упор на физиологическом воздействии, отупляют мыслительные функции.
Круглосуточно транслируемая музыка должна быть постоянным раздражителем
физиологических центров.
То же с сексуальностью. Нам предстоит распахнуть мир сексуальных наслаждений. Помочь молодым, и не только молодым, забыть о высоких идеалах нравственности. Обнаженность подаваемых сцен не должна вас шокировать.
Естественное должно быть естественным. Да, и вообще, что такое сам
секс? Между нами говоря, то же, что сходить в туалет, покряхтеть там в свое
удовольствие. Стыд здесь неуместен. Человек же не стыдится, когда при
определенных позывах идет справить нужду? - Брови гендиректора приподнялись,
округло нависли над молодо заблестевшими глазами. Некоторое время он с
любопытством ожидал отклика.
Собеседник промолчал. Гендиректор нахмурился, сказал жестко:
- Если мы сумеем внушить молодежи, что смысл жизни в сексуальных
удовольствиях, мы уже будем близки к нашим политическим целям!
Особый разговор о способе подачи материала.
Пример: в информационных программах мы подаем новости одной
строкой. Что скрыто в этой принятой нами системе? Во-первых, слушателю, зрителю
мы не позволяем сосредоточиться на каком-либо факте или событии, лишаем его
самой возможности самостоятельной оценки. Факт или событие подается без пауз,
специально подобранными дикторами. Первое сообщение накладывается на второе,
шестое, десятое, что вызывает в сознании беспорядочное Броуново движение. Создаваемый в восприятии хаос не только проецирует
недовольство, раздражение, скрытые неврозы. Мы добиваемся главного: порождаем
безразличие к смыслу. В итоге, подаваемая информация ложится напрямую в
подсознание с нужной нам эмоциональной оценкой. Таким образом, у нас -
интеллект. У электората - поступки «по сердцу», направляемые нашим интеллектом.
Вообще, россиянский народ - пассивный народ. На него можно давить
бесконечно. Он будет охать, ворчать, и все-таки, снова и снова
приспосабливаться к худшему. На этом национальном менталитете, возможно,
добиться полной пассивности электората.
Не забывайте, у нас - колоссальное преимущество: нам невозможно
возразить! Первое и последнее слово всегда за нами. Можно чертыхаться,
плеваться у экрана телевизора. Но наше, подчеркиваю, наше слово уже ушло, уже легло
в чье-то безвольное сознание. И если мы будем настойчиво повторять, что при
Сталине в ГУЛАГах сидело сто миллионов безвинных, и не предоставим возможность
нам возразить, электорат проглотит и эту информацию, и ужас перед тем временем
прочно засядет в его подсознании.
Полезно рассуждать о милосердии. Но только по отношению к больной
части общества - к олигофренам, дебилам, умалишенным, осужденным. К месту тут
сочувствие, даже слеза. Больное общество, как и больного человека, легче
принудить к послушанию. В этом же направлении работают информационные выпуски.
Насыщаемые сообщениями о различного рода катастрофах, пожарах, убийствах,
насилиях, они создают в подсознании фон нестабильности, впрочем, сие к вам
прямого отношения не имеет. Занимаются этим другие службы. Вам предстоит
деятельность более тонкая. Если вы, например, призовете к микрофону или к
экрану политического деятеля самостоятельно мыслящего да еще с характером, при
любом ведущем расклад будет не в вашу пользу. Вот, широкое использование артистических
имен приносит видимые дивиденды. Актеры - покорные исполнители чужой,
режиссерской воли. Они - как бы завершенный, идеальный ориентир для российского
электората.
Вам не приходилось общаться с актерским миром? Нет?.. Беру
смелость удостоверить: в массе своей актерский мир - абсолютно обывательский
мир, с суетными, мелкими страстишками, замешанными на примитивном эгоизме,
тщеславии и корысти. Как раз то, что полезно распространить на весь электорат.
Конечно, и среди артистов есть исключения. Но исключениями пусть занимаются
другие.
Поле нашей деятельности - массовое сознание. И в этом отношении
клубничка закулисной жизни намного предпочтительнее претенциозных бесед о
вечном!..
Гендиректор откинул голову, устремил взгляд в воображаемые небеса,
острый кончик его короткого носа растроганно заблестел. Мысленно отдав дань
вечному, он вернулся к заботам насущным. Взглянул озабоченно на часы, поправил
светлый пестрый галстук под воротом модной сорочки, сказал:
- Вообще, эфир должен быть насыщенным, и, в то же время, как бы пустым. Информация постоянная, всеохватная. Но все - бессистемно, хаотично. Главное - не углубляться в суть...
Итак, поступки людских масс необходимо переводить из сферы сознательного выбора в саморегулирующуюся систему подсознания. В этот биологический компьютер постепенно закладывать блоки, определяющие бытовые и общественные устремления электората. Как-то: блок добывания и потребления пищи, блок забот об устройстве жилища, блок удовлетворения сексуальных потребностей, блок зрелищных удовольствий, блок предвыборных ориентаций и т.д.
Через радио, телевидение каждый блок подключается к контролируемой
нами информационной системе и действует по нашим подсказкам. Помните, самое
нежелательное - это мыслящий человек. Делайте все возможное и невозможное,
чтобы не допускать самостоятельности в сфере мышления!
Кандидат на ответственную должность удивленно воскликнул:
- Но тогда люди станут роботами!..
- Да, - жестко подтвердил гендиректор. - Это идеальное решение
всех наших глобальных проблем. Мыслительную функцию мы отводим лишь элите
человечества! Вас что-то смущает?
- В общем-то, нет. Понятно. Только... Только, я попробовал
поставить себя на место слушателя, зрителя. И подумал: не может ли случиться
так, что он, зритель, слушатель, догадается о ваших, наших установках и, -
извините, кощунственную мысль - он, зритель, слушатель, попросту откажется от
услуг радио, телевидения?
Губы гендиректора раздвинулись снисходительной усмешкой:
- Не откажутся. Не откажутся! - повторил он. Последние данные
науки ограждают от подобной возможности. Установлено, что информация - одно из
фундаментальных свойств материи. Пока материя существует, - а материя, как
известно, вечна, - существовать будет, как необходимость бытия, информация.
Тот, кто откажется от телевизора, от радио, обречет себя на смерть от
информационного голода. Не всуе будь, помянуто, но пока жив наш гарант, мы
просто обязаны, врасти в жизнь электората. Потом уже никакая революция не
сможет выкорчевать корни, запущенные нами в россиянское сознание.
Яйцевидная голова гендиректора изменила свои очертания: нижняя
часть лица отяжелела, раздвинулась в щеках, обрела грушевидную форму, в оскале
рта обнажился желтый металл зубов. Что-то бульдожье проступило в его лице. Но
лишь на мгновение. Тут же лицо снова обрело выражение добродушия, губы
сложились в улыбку, сонные веки полуприкрыли глаза.
- Ну-с, - произнес он устало. - Должен сообщить: оплата в валюте.
Сумма зависит от предложенных полезных идей, и, разумеется, от стараний
поспособствовать общему делу.
Гендиректор поднялся, вышел из-за стола проводить гостя. Самолично распахнул дверь кабинета. С напряженным любопытством наблюдал, как будущий сотрудник преодолевает пространство за дверью.
Там, у порога, лежал небольшой мягкий коврик с рельефно вытканным
профилем Ленина. Войти и выйти, не ступив на коврик, было трудно. Заметно было,
как кандидат на ответственную должность стушевался на пороге распахнутой двери,
и все-таки, вытянув длинную ногу, поставил ее далеко за коврик. Вслед, с
видимым облегчением, перенес и свое худое тело.
Неодобрительная усмешка покривила пухлые губы гендиректора.
Медленно он прикрыл дверь, вернулся к столу. Включил бесшумный вентилятор.
Щурясь от напористого потока воздуха, устремил взгляд в окно. Некоторое время
сидел в неподвижности, постукивая пальцами по столу.
Наконец, отвечая своим мыслям, задумчиво произнес:
- Родственные чувства, - это, конечно, аргумент. И все-таки дело -
есть дело...
Он поднял трубку прямой связи с шефом…
*
*
*
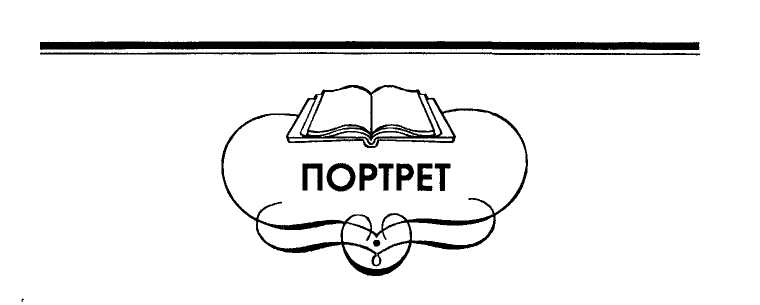
1
В один из дней поздней осени художники Иван Сомов и Вениамин
Аркадьевич Туров отдыхали на пленэре. Только что они закусили, Туров
удовлетворенно вытянулся на широко расстеленном брезенте, выразил полноту
охвативших его чувств словами:
- Молодцом, Сомов! В
этакую благодать вытащил!
Туров с Сомовым были в некотором роде друзьями. Туров, пребывавший
уже в преклонном возрасте, имевший имя и влияние, взял под покровительство младшего
собрата по искусству, поменявшего беспокойные берега Невы на спокойствие
берегов волжских, устроил ему жилье, мастерскую, приблизил к дому, и со
стариковским добродушием подвигал его к крупной работе над своим портретом.
Сомов, не умел как-то иначе выразить свою признательность, взялся за работу.
Но, удачно и довольно быстро охватив внешнюю фактуру, работу приостановил: он
вдруг понял, что написанное им - не искусство.
Сомову не давался взгляд Турова, как раз то, что должно было выразить нравственную суть натуры. Когда Туров, добродушно ворча, садился позировать, глаза его обретали какой-то холодновато-зеркальный блеск, и Сомов приходил порой в отчаяние от своей неспособности прозреть то, что скрывалось за зеркальностью глаз Вениамина Аркадьевича. Природное упорство не позволяло Сомову оставить начатое дело. Но от первоначального замысла писать портрет Турова - художника он отступил.
В Турове он смутно чувствовал некую психологическую
многослойность, сложившуюся, видимо, под воздействием разных, прожитых им эпох.
Но после изнуряющих попыток выразить в портрете чувствуемую психологическую
сложность, решил писать портрет Турова - человека. И теперь, сосредоточившись
на этой своей мысли, жил в нетерпеливом ожидании открытий. Он и на пленэр-то
уговорил Турова поехать, соблазнив его богатой рыбалкой, в надежде понаблюдать
Вениамина Аркадьевича в обычном, вольном общении. Но отлично порыбалив, выловив
с десяток фунтовых окуней, тщательно упаковав каждою рыбину в отдельный
целлофановый пакет с пучками крапивы, сберегающими рыбью свежесть, всё уложив в
хозяйственную сумку и любовно пристроив её в холодке, Туров так и не раскрылся
перед наблюдающим за ним Сомовым. С аппетитом похлебал приготовленный Сомовым
из добытой им утки суп, побаловал себя стопочкой коньяка и теперь умиротворенно
возлежал, постукивая пальцами по выпуклости живота и тихонько напевая высоким
голосом:
- Аи, хорошо, аи,
хорошо...
Простенькие слова, простодушный, как звук пастушьего рожка, мотив
расслабили Турова. Он разнежился, как - то даже распахнулся, и Сомов, так долго
ожидавший счастливой минуты, впился взглядом в Турова, даже привстал в надежде
уловить до сих пор неуловимое. Туров заметил любопытство Сомова. Только что
живые его глаза отстраненно заблестели, он оборвал песенку, покряхтывая, сел.
Спросил ворчливо:
- Чего портрет-то мой не
выставляешь? Сделал ведь!..
Сомов не нашелся с ответом. Туров по-своему истолковал его
молчание, сказал внушительно:
- Давай, выставляй.
Выкупим для музея. Большие деньги получишь, - и добавил с укором, - Братия
языки уже чешет. Рады, когда у кого-то не получается.
- Не в том дело, Вениамин
Аркадьевич, - решился объяснить Сомов. - Завершающие мазки, сами знаете, самые
трудные...
- Ну, милый, шедевра все
равно не создашь! Теперь в чести вот этакое, - он извлек из блокнота
прямоугольник открытки.
Открытка оказалась цветной фотографией улыбающейся девушки-японки в роскошном кимоно, на безлюдном пляже. Поражало качество объемного изображения. Поверхность открытки серебрилась, как штилевое, не озаренное еще солнцем море, казалось, составлена она из мельчайших, тщательно слитых друг с другом чешуек. "Отличная работа", - подумал Сомов, хотел возвратить открытку, но девушка, будто живая, вдруг подмигнула ему. Сомов заинтересованно наклонил открытку, девушка, продолжая улыбаться, опять подмигнула.
Сомов снова изменил наклон, и кимоно с девушки медленно сползло,
обнажив прекрасное юное тело.
С любопытством разглядывал Сомов явленное ему чудо, стараясь
понять секрет живой изменчивости фотографии, но Туров, довольный произведенным
эффектом, взял открытку из его рук.
- Вот так-то, - сказал
наставительно. - Теперь в фаворе машинное искусство. И, заметь, - миллионными
тиражами расходятся по свету. Ты же, - подумать только! - который год мучаешь
портрет, не можешь поставить точку.
Туров подвинулся ближе к еще неубранной с брезента еде, подтянул к
себе украшенную золотистой этикеткой, бутылку:
- Давай-ка, еще по
маленькой! - он разлил медово отсвечивающий коньяк по кружкам.
Ветер вдруг надавил, взвихрил под березой опавший лист. Сомов
встревожено поглядел на небо. Хмарь, нависшая с утра, перевалила лесной увал,
белесые перья облаков широко разметнулись по небу.
- Надо выбираться, -
сказал, обеспокоено Сомов. - Задует, по плесу не проскочим!
- Ох, Сомов. И что ты за
человек?! - Туров поморщился в досаде. - Кто же от благодати убегает! За
портрет, Сомов! – он поднял кружку, сделал движение, показывая, что чокается,
выпил, снова вытянулся на брезенте.
Пока Сомов увязывал, носил, в лодку вещи, Туров, лежа, проглядывал
мятый клочок газеты, время от времени советовал:
- Еду-то не собирай. Птицы
склюют... Ужинать дома будем!
Сомов все же завернул в бумагу, сунул в карман два ломтика хлеба.
Оставшуюся еду разложил по бугорку на виду томившихся в прибрежных кустах,
поскрипывающих в нетерпении сорок. Ружье, свой рюкзачок, с оставшимся от
утренней зорьки чирком и увесистую хозяйственную сумку Турова, уложил в носу
дюральки, опробовал мотор, тревожась надвигающимся ненастьем, решился еще раз
поторопить Турова.
Туров отмахнулся:
- Погоди! Дай дочитать.
Послушай-ка лучше, чем живет человечество. В джунглях опять ищут черный ящик.
От самолета - пшик, от пассажиров - косточки, а ящик ищут! Знать хотят, что было
в том ящике, когда самолет еще летел, а люди пили кока-колу!.. - Туров в
задумчивости поднял руку, пустил газету по ветру. Нехотя поднялся, тщательно
застегнул куртку, - приготовил себя к отплытию.
У протоки в это время заиграл малек. Туров как-то присел,
перехваченным от волнения голосом прошептал:
- Окунь бьет! Перед
грозой... Ладно, уж, погоди! - Он подхватил спиннинг, заспешил на мыс, где,
взблескивая, брызгами разлетались под водой рыбья молодь.
Сомов понаблюдал за Туровым, с молодым азартом, размахивающим
спиннингом, сложил, убрал в лодку брезент. Зная, что шеф не удержим в своих
увлечениях, пошел к лесу. Прощаясь с поздней осенью, он любил побродить среди
берез, "пошуршать листьями.
В небе и на земле помрачнело, когда он возвратился, ветер трепал
березу, сорванные листья, пуганными птахами, неслись над лугом.
Встревоженный Туров, прикрываясь меховым воротом от холодных
ветровых порывов, бегал у лодки, махал ему рукой.
- Запропал, черт дери!
Гляди, что творится! Скорей давай! Ехать надо!- кричал он.
Сомов предугадывал, что ждет их на открытом озерном плёсе,
предложил переждать бурю в затишке, но Туров и слышать не хотел о ночевке.
Сомов послушно запустил мотор.
2
"Попали дьяволу на зуб!", - думал Сомов. Лицо его было
исхлестано брызгами, он не мог даже на мгновение разомкнуть занемевшие на руле
пальцы. Всю силу бури ощутили они на середине плеса, за мысом, где идущие с
другого широкого разлива валы тяжело сталкивались с угонной волной.
Лодку ворочало, будто телегу на ухабах, волны вздымали корму,
мотор от зависающего в воздухе винта отчаянно взревывал. Сомову надо было уловить
момент, сбросить газ, тут же резко прибавить, чтобы другая, с оскалом пены
волна, не придавила их губительным ударом. Нос вспарывал тугую волну, брызги
летели дождем, лодка кренилась, тяжело вползала на гребень, горб воды с
шипеньем уходил к корме. И все начиналось сначала. Тысячи поединков с накатами
волн выдерживал Сомов, напряженным взглядом угадывая единственно возможную в
этом хаосе воды и неба, ничем не обозначенную дорогу. В напоре ураганного
ветра, плеске волн, он слушал то спадающий, то заходящийся в визге звук живого
двигателя и до ясной ясности понимал, что случится с ними, если мотор вдруг
заглохнет: вряд ли он и Туров выберутся живыми из этой, будто окрученной,
поднятой на дыбы стихии.
Лодка, то, как будто проваливалась, то, гонимая волной, стремительно неслась вперед. Медленно, но приближались они к едва видимому над волнами островку, с надеждой хоть на время укрыться от ветра под его защитой.
В какую-то из минут, Сомов взглянул на Турова. Взгляд охватил
крупное ссутулившееся тело, побелевшие пальцы, вцепившиеся в борта, искаженное
в страхе лицо. Хотел улыбкой взбодрить Турова, но волна ударила гулко, с
водопадным шумом обрушилась вовнутрь, лодка осела. С трудом отводил Сомов
огрузнувшую лодку от новых ударов, из-под сиденья вышвырнул котелок, показал
движением руки, чтобы Туров отчерпывал воду, Туров не пошевелился, он
оцепенело, смотрел, как вокруг его ног переплескивается от борта к борту вода.
Перекрывая гул ураганного ветра, Сомов кричал:
- Воду!!! Отливайте воду!
Туров не внимал отчаянному его зову. Обратив мокрое лицо и
невидящие глаза к небу, он беззвучно шевелил губами.
Новый удар волны окончательно сломил Турова, он сполз на мокрые
стлани, грудью навалился на сиденье и так, лицом вниз, ждал конца своей жизни.
Сомов ногой подогнал плавающий котелок, прихватил свободной рукой.
Улавливая передышку между накатами волн, лихорадочно отчерпывал из лодки воду.
Самое опасное место, где волны сталкивались, образуя коварные
бугры, они, наконец, миновали. Островок, надежда их, приближался. Но лодка
подходила к нему в наветренной стороны. Чтобы зайти за остров, предстояло
подставить борт под волну. Зная, что даже у наветренного берега бывает более
спокойная от отраженных ветровых потоков полоса, Сомов вел лодку как можно
ближе к пенящейся береговой кромке, в то же время, остерегаясь налететь на
мель.
Предугадывая одну опасность, он упустил другую: лодка схода вошла
в темную колышущуюся массу водорослей, стебли обкрутили винт, двигатель заглох.
Требовались минуты, чтобы сорвать с винта траву, снова запустить
мотор. Лодку надо было развернуть против волны, удержать в таком положении на
немногие эти минуты.
- На весла, Туров! -
крикнул Сомов, - неуправляемую лодку, раскачивая и приподнимая, несло на берег.
Туров поднял голову, невидящим взглядом уставился на
Сомова. Увидел берег, с проворностью, непостижимым для него, забрался на
сидение, раскинул весла.
- От берега! От берега!-
кричал Сомов. Но Туров не слушал. Сдавив побелевшие губы, с застывшим в лице
упрямством, он гнал лодку прямо в берег. Поднятая волной лодка с ходу ткнулась
в кипящую пеной твердь.
Туров перескочил через борт, втянув голову в плечи, побежал от ревущей воды к пригнутому ветром тальнику, в изнеможении опустился на песок.
3
- Весёленькое местечко! -
Сомов, знобко поеживаясь, присел рядом с Туровым, поочередно вылил воду из
сапог, выжал, насколько мог, стеганку. Нахлестало волнами его крепко, пока он
спасал мотор, бак с бензином, затонувшие вещи. Стараясь не раздражаться на
Турова, уточнил: "Ни уюта, ни приюта?".
- Зато - живые!.. - подал
голос Туров.
- Живые-то живые, -
вздохнул Сомов, оглядывая голый, как ладонь, остров. - Робинзон, насколько
помнится, обживался в теплых краях... - Морщась, он натянул на мокрые портянки
такие же мокрые сапоги, пошел к мотору.
Беспокойство подняло и Турова. Сомов видел, как по-стариковски
суетно, он перебегал от одного края острова к другому, вглядывался в волны,
упрямо махал привязанным на палку платком - еще верил, что кто-то разглядит
его, Турова, из кромешного ада.
Сыпанул снег. Влажные хлопья рождалась где-то над пенными гребнями
волн, неслись стремительно, забеливая берега.
"Одно к одному", - думал Сомов, прикрывая собой
раскрытое нутро мотора. Катушки замокли, а без мотора не выбраться, даже если
стихнет буря: гнать тяжелую лодку на веслах двадцать с лишним километров им не
под силу.
Туров, тяжело дыша, уселся рядом на песок, запрятал уши в поднятый
воротник.
- Что делать-то будем? -
спросил жалобно.
- Помирать будем! -
откуда-то из окоченевшего нутра ответил Сомов. Он подышал на сбитые о железо,
не чувствующие пальцы, оторвал от брезента кусок, тщательно укутал мотор.
Понимая, что в мокрой одежде, на ветру, несдобровать, дважды
обошел остров, примечая на ходу замытые в песок коряги, сучья. Обнаружил старое
остожье. Стог, когда-то бывший здесь, был сметан на подкладе из ольховых
жердей, и Сомов подумал, что часа на два они будут с огнем. Достал топорик,
вбил колья, натянул брезент, выгородил защищенный от ветра уголок. Изрубил
жерди, плеснул из бака бензином. По охотничьей привычке он всегда хранил в
нагрудном кармане укутанные в клеенку спички со шкуркой от коробка. Костер
заполыхал. Туров, покряхтывая, подлез к огню, протянул руки.
- Вот ведь, все у тебя,
получается! - похвалил он.
Сомов взял котелок, сходил за водой. У костра разделал чирочью тушку, навесил вариться, - без горячего, на голодный желудок, тяжко коротать холодную ночь.
Пока варилось, Сомов сушил исподнее. Под накинутом на голое тело
намокшим ватником даже у костра было зябко. Туров же распахнул куртку, в жажде
деятельности выдергивал из остожья клочки лежалого сена, подсовывал в огонь,
Сомов, отстраняясь от дыма, попрекнул:
- Сено-то поберегите,
Вениамин Аркадьевич. Ночь длинна, огонь ненадолго.
Туров оскорблено стал счищать с ладоней сор.
Горячего варева, однако, похлебал с готовностью, с хрустом сжевал
половину плохо уварившейся тушки. Отирая платком пальцы, подлаживаясь под
этакого простецкого мужичка, посетовал:
- Оно, конечно, ежели б
подсолить!.. Бросили соль-то. Сколь еды бросили!..
Заметив ироничный взгляд Сомова, примолк, но разогретый аппетит не
давал ему успокоиться.
- Ты, это, самое, вроде бы
хлебца прихватил? - спросил он деловито.
Сомов вынул из кармана размокшую бумагу с двумя измятыми ломтиками
хлеба, аккуратно разложил перед огнем.
- Да мы и так съедим! -
разохотился Туров. Сомов внимательно посмотрел ему в глаза.
- Это всё что у нас
осталось, - сказал он. - Что будет завтра - даже Богу неведомо.
О десятке Туровских окуней он умолчал, он был художником, он давал
натуре возможность раскрыться.
Легли на подстилку из наскребышей когда-то бывшего здесь сена,
подвернув под себя один конец брезента, укрывшись другим его концом. Лежали
по-солдатски, спина к спине, ветер трепал брезент, сыпала снежная крупа. Туров
дремал, порой даже всхрапывал, Сомову не спалось, в возбужденном воображении
складывался новый замысел портрета человека, который жался сейчас к нему
спиной.
Из многого, что знал он о жизни Турова, шли на ум какие-то мелочи,
которые прежде даже не останавливали внимания. Теперь будто сами собой лепились
они к образу Турова, заполняли пустоты, которые неудовлетворенным
художественическим чутьем он ощущал. Вспомнилось почему-то увлечение Турова
картишками. Всякий раз, закончив позировать, он усаживал Сомова за стол,
потчевал вином, поил чаем с разными разностями, на которые жена его, приятная
обходительная женщина, была отменной мастерицей. Уплотнившись в застолье, он
непременно предлагал перекинуться в "дурачка". Играл зорко, с
предвидением возможных ходов, в азарте приговаривал: "А вот тузика-то я
прихлопну, ежели перестал бить козырным!".
И пока в неудаче были партнеры, пребывал в полнейшем добродушии,
посмеивался снисходительно над женой, над Сомовым. Но как только раскладка карт
менялась, желание вступало в противоречие с возможностями. Туров проигрывал, от
благодушия его не оставалось и следа. Лицо бледнело, губы тряслись, в
возмущении он набрасывался на жену:
- Ума нет! - кричал он,
дрожащими руками тасуя ненавистные ему в эти минуты карты, - Кто же с козырей
ходит!? Надо же додуматься!
Оскорбленная жена порывалась уйти, Туров сердито усаживал её,
заставлял играть до тех пор, пока сам не выигрывал до трех раз кряду.
Сомова смущал, как будто несвойственный Вениамину Аркадьевичу
взрывной темперамент, в неловкости он отводил глаза, но, возвращаясь к себе,
оправдывал своего покровителя тем, что слабости свойственны и сильным мира
сего! Теперь же, вспоминая того, раздраженного Турова, он начинал догадываться,
что безобидные картишки были для него не просто развлечением: играя, он
загадывал на какие-то тайные свои ожидания, как бы разыгрывая на картах свои
взаимоотношения с жизнью, и каждый проигрыш суеверно воспринимал как проигрыш в
жизни. В зябкости бессонной ночи, после того, как случилось с ними, все в
Турове, даже самая незначительная черточка, обретала в мыслях Сомова незнаемый
прежде смысл.
Вспомнился другой, совсем уж пустячный случай на зимней рыбалке,
когда Турову, всегда везучему на уловы, в тот день не везло. Туров нервничал,
вскидывал на плечо ремень ящика, переходил с лунки на лунку, тряс удочкой,
торопя поклевку - рыба не шла.
Сомов расположился невдалеке от благодушного старичка, наблюдая,
как цеплялись ему на мормышку махонькие, с мизинец, полосатые окуньки. Старичок
аккуратно снимал их с крючка, с какой-то трогательной бережливостью пускал обратно
в лунку. Добро вознаградилось: подряд он выволок двух тяжелых окуней. Туров
увидел, чертыхаясь, перебежал, пристроился рядом, но из лунки шли только
окуньки-"матросики".
Первых пойманных малявок он побросал в лунку. Потом раздражился,
стал срывать окуньков с крючка, швырять на лед. С десяток полосатеньких,
подрагивая хвостиками, уже лежали вокруг его ног. Старичок от своей лунки
посоветовал:
- Мальков-то в воду
побросайте. Жалко малых!..
- Вам-то что за дело? -
взорвался Туров - Ловите и ловите... Лезут тут разные с советами, - ворчал он,
сбрасывая на заляпанный кровью снег очередного "матросика".
Старичок отложил удочку, пошарил в кармане, решительно подошел к
Турову.
- Вот мои документы
рыбинспектора. Прошу вашу путевочку! - Старичок был суров и не подступен.
Сейчас, как бы воочию видя то, что было тогда, Сомов пожалел, что
в те минуты не сумел схватить на карандаш выражение лица Турова. Как на
ускоренно пропускаемой через аппарат кинопленке, в ничтожно малое время
менялись в его лице противоречивые чувства: надменность сменилась недоумением,
недоумение - растерянностью, и с совершенной отчетливостью в заискивающе
поднятых вверх глазах проступил страх перед явившимся вдруг возмездием.
Сомов понимал теперь, что в той случайности было потрясающее раскрытие
натуры в живой ее переменчивости, нечто похожее на явленный Туровым зрелищный
фокус японской открытки. Снова и снова он укорял себя за то, что не был
достаточно проницателен прежде. Сомову не пришлось наблюдать, как вел себя
Гуров, будучи хозяином высоких кабинетов. Но сейчас он определённо знал, что
нравственная суть человека проявляет себя равно в больших и в малых, даже
случайных, поступках.
Жизнь каждого человека, - думал Сомов, - как бы раздроблена на
малые поступки, на такие вот кусочки мозаики, сами по себе как будто не имеющие
ни серьезного значения, ни смысла. Но рано или поздно все складывается, каждый,
сам по себе как будто ничего не значащий кусочек, находит свое место. Убери его
и завершенной картины не будет, это же очевидно! - возбуждаясь собственной
мыслью, думал Сомов. - Почему же даже мы, художники, так снисходительны к
житейским проявлениям натуры? Жизнь - вот она! - рассыпана перед тобой в
мозаике будничных дел и слов и тебе остается только сочленить, эту россыпь в
живой портрет!
Сомов осторожно, стараясь не тревожить Турова, прикрыл
захолодевшую голову брезентом: спать он не мог, нетерпелось как можно скорее
добраться до дома и взяться за кисть.
День они протомились на острове в тягостном молчании. К вечеру
ветер ослаб. Всю долгую ночь тащились они на одном работающем цилиндре, пока
мотор не заглох окончательно.
Угадывая направление по смутным очертаниям берегов, Сомов устало
загребал веслами, подвигал тяжелую лодку по смолянисто отсвечивающим в ночи
волнам. Когда в разрывах туч появлялась луна, он различал Турова, мрачно
сидевшего на корме, бледное, размытое лунным светом его лицо. Он чувствовал его
состояние, ощущал возникшую между ними отчужденность и все-таки хотел, жаждал
услышать слова, которые скажет Туров при прощанье.
Когда лодка, наконец, прошуршала днищем о песок, и Туров,
прихватив свою тяжелую сумку, оказался на материке в виду освещенного окна
егерского дома, он с шумом дохнул, как он выдул из себя невзгоды прошедших
суток, заторопился, было к дому, вернулся. В тихой сумерети рассвета Сомов
услышал голос Турова:
- Ты сумасшедший, Сомов!
Надо же, - в такую бурю полез! Чуть жизни не лишил! - и Сомов, измученно
сидевший в лодке, улыбнулся слабой удовлетворенной улыбкой: он услышал слова,
которых ждал.
4
Сомов выставил картину.
Среди размятой бурей безбрежности воды - лодка, увлекаемая с
высоты волны в разверзшуюся перед ней бездну. Крупным планом лица двух людей.
Оба - в противостоянии стихии. Один раздавлен страхом: серо-белых тонов лицо, в
глазах безнадежность, почти безумие, рука намертво вцепилась в борт, пальцы
другой сложены щепоткой, застыли у груди.
Второй слит с мотором. Сжат, как пружина. Вместе с лодкой он как
будто выскальзывает из пасти нависшей над ним волны; напряженный взгляд
устремлен в бурлящий между волн провал.
Художественный фокус картины сосредоточен на втором человеке, на
его, как бы двойном поединке - со стихией, и с оцепенением страха, исходящем от
другого человека. Сомов назвал картину "Преодоление".
Картину заметили. Прочили выдвижение на Всесоюзную выставку, Но
ждали возвращения с творческой дачи Турова.
Что испытал Туров, в молчании разглядывая картину Сомова, какие
мысли, какие воспоминания обуревали его в долгом отрешенном стоянии перед
картиной, узнать такому не довелось, едва различимый его шепот:
"Талантливо, черт дери!" – уловила лишь жена, молчаливо пребывавшая с
ним рядом.
В это самое время за спиной Турова раздался голос девочки:
- Мама, смотри: один
борется, другой молится!.. Туров вздрогнул от простодушных девчоночьих слов,
заторопился к выходу, бормоча:
- Это уж слишком... Это
уже слишком, Сомов!..
В мрачной подавленности Туров пребывал два дня. Ночью вставал,
ходил по квартире, мял печень, глотал минеральную воду, в старании заглушить
едкую горечь во рту, - желчь разливалась, сама кровь, казалось, обратилась в
желчь.
- Черт дери! - шептал
Туров, понимая, что дело не в печени, - перед глазами стояла Сомовская картина.
Встревоженная жена поднимала с подушки косматую в свете уличного фонаря голову,
спрашивала:
- Что с тобой, Вениамин?
Заболел?..
- Спи, давай! - недовольно
отзывался Туров.
Жена садилась, прикрывала плечи одеялом.
- Ну, что ты терзаешься! -
уговаривала она. - Человек написал хорошую картину, ну, порадуйся за него! У
тебя - свое, у него - свое.
Жена Турова принадлежала к тем редким ныне людям, для которых
остро чувствуемая справедливость бывает порой выше семейного согласия.
- Дура! - взрывался Туров.
- Что ты понимаешь во всем этом?! Молчала бы уж...
Раздражение, однако, искало выхода, и Туров взвинчено шагая взад-вперед
по полутемной комнате, старался своим раздражением возмутить чувства,
оскорблено внимающей ему жены:
- Свое - чужое! Ты хоть
подумай, что говоришь. На выставку-то его картину толкнут!.. Да что это такое:
работаешь, работаешь. А как до дела, обязательно кто-то дорогу перескочит. Это
надо же! Прошлый раз этого... Как его?.. - молодого на республиканскую
отправили. Теперь Сомовская картина свет застила...
- Погоди, Вениамин, -
подавала голос жена. - Что-то не то ты говоришь. Ты же на двух Всесоюзных участвовал.
У тебя - звание, почет. Ну, зачем тебе все это?
- Аи, да что с тобой
говорить! - Туров в досаде отмахнулся, пошел на кухню пить воду.
В темном коридоре вдруг остановился: он явственно увидел, что
дверь в боковую комнату приоткрыта, кто-то в щелку смотрит на него…
"Что за чертовщина"- подумал Туров, он доподлинно знал,
что в этой комнате никого нет и быть не может. Однако полоску приоткрытой двери
он различал, различал и легкое движение тени. Струйка пота потекла по спине. Он
заторопился кликнуть жену, но устоял: эта навсегда закрытая комната хранила его
тайну.
За этой дверью, в затененной узенькой комнатке, долго и тяжко умирала его мать. Старший брат Вениамина Аркадьевича, хорошо устроенный в столице и вечно занятый, щедро слал деньги на ее имя. Мать лежала, не в силах подняться, но в свою кончину не верила: ревностно собирала и прятала деньги при себе. По прикидке Вениамина Аркадьевича в комнате скопилась значительная сумма. И когда в один из дней мать все-таки умерла, он решился извлечь материнское наследство. Под предлогом необходимости побыть одному, удалил всех из квартиры, призвал себя к мужеству и вошел в безмолвную комнату.
В суетных поисках ему пришлось приподнять бесчувственное
материнское тело и, когда он, опустившись на колени, заглядывал под матрац, еще
не закоченевшая рука матери упала: он принял мстительный ее удар. То, что
пережил он в уединенном прощании с матерью, он захоронил в своей душе.
Вернувшись с кладбища, собственноручно запер опустевшую комнату и убедил себя,
что все случившееся - уже в прошлом. И вот неожиданный знак, и как будто
оттуда...
Вениамину Аркадьевичу пришлось сделать усилие, чтобы заставить
себя подойти к двери, дверь оказалась запертой: отсвет от кухонного окна падал
на косяк, тени шевелились от дерева, росшего на улице перед фонарем.
- Надо же! - произнес
Туров, дрожащей рукой вытащил из пижамы платок, промокнул влажные виски.
- И все из-за Сомова! -
снова раздражился он.
Мысли Турова определились. Он глотнул воды, убрал бутылку в
холодильник, ступая на цыпочках, принес из комнаты стопку чистой бумаги.
Остаток ночи Туров провел в кухне за стулом. Перебарывая боль в
голове, он мучительно сочинял рецензию в газету на картину столичного своего
покровителя, одного из главных членов выставкома, мнение которого могло
задержать решение по Сомовской картине. Слова подбирал с наивозможным тщанием,
заботясь о тем, чтобы сказанное пришлось по душе художественному боссу, в то же
время и выглядело бы вполне пристойно. Журналистский опыт у Турова был,
рецензией он остался доволен.
Утром устало придвинул к себе телефон, набрал сохраненный памятью,
номер, взбодрил голос, пригласил "на чаёк" известного в городе
критика-искусствоведа Василиария Огудалова-Волжского.
5
Василий Огудалов сам был в некотором роде причастен к художеству,
писал этюдики с рожью, васильками, речками, и с открытым предубеждением, даже
презрением относился к картинам, претендующим на художественные обобщения.
Именно такой человек нужен был Турову сейчас.
Важное лично для себя дело Туров всегда начинал с угощения.
Огудалов осведомлен был о хлебосольстве Турова, пришел в голодном состоянии,
много ел, невоздержанно пил, отлично понимая, что Вениамин Аркадьевич пригласил
его не без личной надобности.
Ублаженный сытостью, лоснясь багровым лицом, он схватил цепкой
дланью Турова за плечо, потряс, как трясут поспевшую грушу, позвал к
откровению:
- Что, друг, статью о тебе
написать?
У Турова, как на пологой волне, сладостно повело сердце, статьи о
себе он желал. Но два дела - не дело. Потому одобрительно покряхтев, с
некоторым усилием освободившись из-под тяжелой руки гостя, он осторожно
спросил:
- Ты лучше вот что скажи:
Сомовскую картину видел?
Глазки Огудалова всегда какой-то мутной голубизны, в упор
уставились на Турова. Туров чувствовал, что Василиарий тужится ухватить смысл,
скрыты в вопросе, подсказал:
- Не показалось тебе: по
теме мелковато, а разговоров вокруг!
Губы Огудалова шевельнулись в улыбке: Василиарию всегда доставляло
радость видеть слабость в другом человеке. Сощурив глаза, он долго, как-то даже
любовно глядел на Турова, смущал его пристальностью взгляда, сказал
сочувственно:
- Понимаю, понимаю,
Аркадьич. И скажу: ты верно подметил. - И вдруг закричал на всю квартиру: -
Мелкотемью - бой! Верно, я говорю, Аркадьич?!
Он так близко подсунул красное, распаленное жаждой сокрушения
лицо, что Туров невольно отстранился. Скрывая явленную бестактность, тут же
потянулся к столу, с готовностью предложил:
- Еще по единой?..
Гость огрузнел, развалился в старинном кресле, выставил округлый,
обтянутый пестрой фланелевой рубашкой живот так, что под его напором натянулись
в петлях намертво пришитые пуговицы, бессмысленно уставился в тарелку с
остатками салата. Взгляд неподвижных глаз, охваченных красными, будто
воспаленными веками, был настолько тяжел, что Туров счел нужным деликатно
покашлять.
Огудалов, не поднимая головы, молча указал пальцем на стоящую
перед ним пустую рюмку. Рука его вдруг сжалась в кулак, с силой опустилась на
стол.
- Ну, Сомов! - зловеще
произнес он. - Слушай, Туров, у меня в выставкоме есть люди. Только слово
скажу!
Туров нервно затеребил жирок подбородка: в широком замахе гостя,
он ощутил явный перебор.
- Ты это самое, надо ли
так-то? ... Может, только критикнуть. Картину-то? Ну и...
- Понимаю, понимаю, Аркадьич. Он же портрет твой не дописал! - Насмешливая улыбочка была неприятна, но Туров счел возможным не проявить своих чувств.
В передней Василиарий пытался сам просунуть руку в рукав
небесно-голубого пальто на отличном, как и у Турова, меху. Туров услужливо
помогал, сглаживал возникающие неловкости прибаутками. Уже одетый, обмотав шею
красным шарфом, Огудалов, обозревая Турова с высоты своего роста, вдруг
нагнулся, заглядывая, казалось, в самую душу, проговорил со значением:
- Вот, Аркадьич! Ты сейчас
на коне, в почете, при должности. А без меня и теперь не обошелся!..
Туров понял: было, было, не кто иной - он, Огудалов начинал
мостить ему дорогу к тому счастливому случаю, что в одночасье вознес его из
провинциальной незаметности до признания в столице. Именно он свел его с людьми,
которые в нужный момент отблагодарили Турова за усердие им проявленное. Нет, не
просто было в виду тысячи картин модных в те времена самодеятельных художников,
выставленных в залах Манежа, задержать первое в государстве лицо именно перед
картиной Турова. Они, эти люди, остановили его. Разглядев крупную фигуру
тракториста, с гусеницы трактора оглядывающего поле, ОН, которого мысленно и
доныне благословлял Туров, высоко поднял темные густые брови, неожиданно бодрым
голосом внушительно произнес:
- Этот художник знает
жизнь. Я бы сказал, понимает! Короткая фраза, минутная остановка у картины
решили художническую судьбу Турова: он обрел звание и почет. Огудалов требовал
признания своих первичных заслуг.
Туров не был человеком сентиментальным, потому добродушно
посмеявшись над цепкой памятью друга, намекая на еще не сделанное дело,
успокоительно заверил:
- Само собой, Василий! -
должок за мной!..
На прощанье Огудалов облобызал Турова липкими от вина губами,
могуче похлопал по спине, закрепляя тайный союз.
Из окна второго этажа, Туров, укрывшись шторой, наблюдал, как
Огудалов величественно выплыл из ворот, прижимая к животу портфель. С
медлительностью выкидывал перед собой ноги, он не шел - шествовал по
припорошенному свежим снегом тротуару. Острые его глазки с привычной
подозрительностью вглядывались в лица прохожих, ветер пушил на щеках реденькие
бакенбарды, окороченные на уровне широкого, сжатого в постоянном презрении рта.
В шествии Огудалова было нечто сокрушающее, и Туров, провожая его
взглядом, молча благословил его.
К концу недели Огудалов позвонил.
- Друг! Дело сделано! -
усталым голосом сообщил он. – На Всесоюзную продвигают твою картину
"Реформаторы полей", а Сомова под горочку, с ветерком! В газете будет
статейка. Сам понимаешь - общественное мнение и прочее. С тебя причитается,
Аркадьич!
Туров плотнее прижал трубку к уху. Когда волнение улеглось,
произнес со значением:
- Заходи, друг. Чайку
попьем!..
Картину Сомова "Преодоление" с областной выставки сняли.
Сомов на удивление сочувствующим ему художникам отнесся к решению выставкома
равнодушно. Загадочно улыбнулся и укрылся в мастерской. Он дописывал портрет
Вениамина Аркадьевича Турова.
6
Туров пробрался в выставочный зал, когда за последним посетителем
закрыли входную дверь. Со стесненным дыханием, на цыпочках, подходил он к
своему портрету, взглянул и с какой-то детской облегченностью вздохнул: да, на
портрете был он, старейшина-художник, в благородной сохранившейся
внушительности, с полуприкрытыми в утомленности глазами, рука держала кисть в готовности
к работе.
Ощущая теплоту, прилившую к сердцу, Туров какое-то время
приглядывался к портрету, выписанному в тщательной сомовской манере. Удачным
казалось ему сочетание матово-красного фона с черным, и приглушенно желтые
краски в самом портрете. С благодарностью учителя к проявившему себя ученику,
подумал:
"А умеет, черт дери! Искусник!.. - Туров вполне
удовлетворился своим видом на портрете. - А эта дура ревёт! - подумал он о
жене, вернувшейся с выставки в слезах. - Мужа славят, а она ревет!", - вспомнил
он позабытое за суетную жизнь деревенское, из детства, словечко.
Прохаживаясь, Туров уже смело, даже как-то победно взглянул на
свой портрет и замер: другой человек был на портрете. То, что только что было,
- старческое благородство в слегка огрузнувшей полуфигуре, располагающая
притомленность в лице, в то же время и видимая готовность жить и работать - все
как будто отделилось, как отделяется от головы приподнятый парик. В портрете
проступило до неприятности самодовольное лицо с надменной полуулыбкой.
- Что за чертовщина! -
пробормотал Туров, в растерянности отступил, потер руками лицо, пытаясь
избавиться от наваждения. Страшась, снова взглянул сквозь раздвинутые пальцы:
со стены, как прежде, утомленно глядел благообразный старец с кистью художника
в руке.
Улыбка тронула побледневшие губы Турова.
- То-то же! - погрозил он
кому-то.
Он уже хотел выключить свет, направиться, к дому, выговорить жене,
раздражающей в её мнительности, но, протягивая руку к выключателю, еще раз
оглянулся и похолодел: внутри черной рамы произошло как бы движение, проявился
в портрете еще один, страшный своим видом человек: бесчувственно-холодные
глаза, сардоническая усмешка на оттененных синевой губах; в руке уже не кисть,
- копье, и чуть ли не кровь стекает с острия.
В ужасе Туров отшатнулся, и страшное видение исчезло. В квадрате
рамы обозначился какой-то жалкий человечек: склонив голову, человечек, которым
опять же был он, Туров, всем своим подобострастным видом являл совершеннейшую
готовность услужить. Туров в беспокойстве перешел на прежнее место: вновь
благопристойный старец, с полуприкрытыми от утомленности жизни глазами смотрел
со стены. Стоило Турову отклониться на шаг, на полшага от какой-то незримо
существующей, но точно просчитанной линии, как портрет менялся, будто живой
человек: оставаясь все тем же Туровым, он непостижимым образом обнажал то одну,
то другую черту натуры.
Туров сознавал художественное мастерство, с каким портрет был
исполнен и, видя, понимая, что сотворил Сомов, потрясенно повторял одну и ту же
удушающую его фразу:
- Как он мог... Как только
смог!.. - Туров знал в себе другую жизнь, знал, сколько тщательно рассчитанных
шажочков делал он в этой другой своей жизни, чтобы обрести имя, комфорт,
обеспеченность, покровительственную улыбку сверху, приятное почитание снизу.
Эта, другая его жизнь, о которой знал только он, Туров, не проступала ни в его
лице, ни в слове, не нарушала, не могла нарушить всеми признанную Туровскую
благопристойность. Он верил, и тверд был в этой своей уверенности, что вторая его
жизнь, как молчаливый "черный ящик" в летящем самолете, неприкасаема
и непроницаема, по крайней мере, до тех пор, пока он, Туров, ходит по земле.
И вот, то, что было его тайной, что сокрыто было в хранилищах, его
души, Сомов каким-то чутьем распознал, обозначил, выставил на погляденье всем!
Туров представил, сколько почитающих его имя горожан толпились тут, перед его
портретом, и сознание совершенной раздетости бросило его в дрожь.
"О, черт дери!" - простонал Туров, и как будто воочию ощутил тот ледяной ветер, которым пронизывало его на голом островке, куда его и Сомова забросило случайной бурей.
"Все началось оттуда!.. - подумал он. - Нет, все началось
раньше. Много раньше. Когда черт дернул приблизить и пригреть этого коварного
простачка!" - Какое-то время Туров отчужденно разглядывал себя, вдвинутого
в черную раму, сдерживая мучительное желание сорвать портрет. Лицо его,
искаженное отчаянием, все более твердело, глаза узились в старческих
припухлостях век. - «Ну, что ж», - проговорил он, наконец. Неверной рукой
нащупал выключатель, погасил в залах свет. В полутьме, замедленными шагами
спустился по лестнице к выходу. Сторож-старик, открывший ему дверь, поклонился.
Туров отметил, про себя, что старик смотрит все понимающими глазами.
Утром Туров не поехал, как обычно, в свою мастерскую, направился
малолюдными улочками в Управление. Шел, отводил глаза от прохожих. И только в
кабинете, прикрыв за собой дверь, сев в кресло, на предусмотрительно
подложенной секретаршей поролоновой подушечке, почувствовал некоторое
успокоение.
Привычным движением рук подровнял телефоны на отдельном столике
слева, опасливо оглядел каждый из предметов на отблескивающей поверхности
стола.
Все было на месте. И оттого, что все было на месте, и никакого
нарушения установленного порядка Туров не обнаружил, он не только успокоился, -
почувствовал уверенность, которую всегда обретал на должностным столом.
- Ну, что ж... - произнес
Туров, рука его тяжело опустилась на телефонный аппарат.
Месяц спустя, Сомов отвергнутый, душевно измученный одиночеством,
упаковал свои картины, сложил в рюкзак краски, кисти, тихо и покорно оставил
квартирку в старинном доме, с плохо греющей печью и дурно пахнущим керогазом, в
свое время устроенную ему Туровым.
Дорога его лежала на север, под Тихвин, где в одиночестве жила его
старая мать. Мать давно уговаривала его оставить беспокойное художество и
заняться путёвым делом.
*
*
*

Посвящается
Сане Волкову
из
Починка Сандогорского
Сане Клепикову за пятьдесят. Но все, от мала до велика, окликают
его просто "Саня", или "Сана", не смягчая последнего звука,
как обычно с дружеской расположенностью обращались к нему кавказские люди,
шабашничавшие летами в наших краях, и имеющие самое прямое отношение к
многосторонней мастеровитости безотказного механизатора-умельца.
И глядится Саня не по возрасту, будто остался тем стеснительным
пареньком, каким был в годах холостых: росточком невелик, хотя и плотен, как
полевая птица-куропач. На круглом лице, зимой обветренном, летом смуглом от
постоянного солнечного жара, особенно приметны большие чуткие уши и нос -
прямой, тяжелый, как дуло нацеленного ружья. Нос выставлялся над маленьким,
каким-то детским ртом, со вздутыми, будто в обиде, губами. Темные волосы, с
вроде бы посторонней сединкой, всегда коротко, по-домашнему острижены. После
долгого мытья рук и лица под рукомойником, Саня всегда смачивает их, аккуратно
приглаживает обеими ладонями.
Если говорить про дела житейские, то Саня в обиде только на природу,
что обделила его ростом, да еще вот ноги покривила в сиротном голодном детстве.
На всю жизнь согнулись ноги колесом, как у кавалериста времен гражданского
противостояния, не слезавшего по случаю долгой войны с коня. Но и к таким ногам
он попривык, ходил торопко, переваливаясь с боку на бок. Не в пример другим,
прямоногим, одолевал немереные расстояния, когда, заприметив чужие удачи,
отправлялся в дальние болота за клюквой, или собирал грибы на соленье, или
преследовал с берданкой в руках дичь. И ежели кто-то из приятелей, имевших в
своем распоряжении колхозную машину, вызывался подбросить его до места,
добродушно отмахивался, кричал: "Пока ты тут ковыряешься, я на своих
кривых дальше утопаю...!".
Из-за мелкого росточка Саня избегал на людях стоять рядом со своей
половиной. Да и то: весело ли мужику, когда едва доставал он головой до плеча
по-русски дородной своей женушки?! Зато у себя дома Саня держался хозяином, при
случайном госте даже командовал, правда, не очень уверенно, вознаграждая себя
за вынужденные природные неловкости. Впрочем, колхозный люд, подтрунивая над
особенностями его внешности, редко перебирал в насмешке. За устоявшемся
снисходительно-добродушном к нему отношением, где-то на донышке, всегда
проглядывала уважительность: Саня был механизатором, безотказным работягой. И
не просто работягой. На своем погрузчике, смонтированном на
"Беларусе", впору было выступать ему в цирке. Люди специально
приходили полюбоваться на поистине цирковую его мастеровитость: ковшом он мог
коробок спичек в окно подать, из окна стопочку на ковш принять, поднести
гостю-приятелю!
Случая не припомню, чтобы Саня не оправдал чьих-то ожиданий. Любую
работу, которая даже не вписывалась в инструкции, он, приноравливаясь к делу,
вершил в лучшем виде. Цену своему рабочему уменью знал и потому со
снисходительностью деда отмалчивался на шуточки завистливых молодых
механизаторов, которых всех, за немногим исключением, пренебрежительно звал
"комсомольцами".
Руки и сметливый ум Сани, в самом деле, равны были цене золота:
сам, своими руками поставил он дом на крутом берегу реки в ряд с другими
домами, отстроил на огороде баньку, хранилище под картошку, из кирпича сложил
мастерскую и сараюшку под разные надобности, соорудил причал для лодки, и все
по высшему, как говаривал он, классу.
Либо глянуть на расцвеченный узорочьем его дом, на аккуратный под крышей колодец, на ровный штакетничек, выкрашенный небесно-синей краской с белой полоской по верхней кромке. И вот что удивительно: поглядишь на его руки-коротышки, никакой особенности! Руки, как руки, какие-то даже пухлые с въевшейся в складки кожи и под ногти чернотой, несмываемой даже соляркой. А вот, поди ж ты, волшебство творят эти руки, когда помогает им приметливость да смекалка, рождаемая в неспешных раздумьях.
Знакомство мое с Саней случилось при весьма любопытных
обстоятельствах, где-то в середине семидесятых, когда село безотказно работало,
с еще большей охотой гуляло. Да, разве одно село?
В самой столице, будто ум за разум зашел у людей, поспешали не
столько к делам, сколько к банкетным столам, из больших и малых городов
выезжали "на зеленую", где под ясным небушком, да на безгласной
травке вольготнее пилось и елось. В деревнях же гуляли по домам да в тех
хуторских избах, где, не сказать, чтобы скрытно, но все же по-тихому, гнался
сахар на вино.
Санин трактор, который со стеснительной ухмылкой он звал
"танкой", уже часа два молотил тишину стуком работающего на холостых
оборотах двигателя, когда с крыльца соседнего дома, где жил хозяйственный,
хорошо обустроенный мужичок-старожил, буквально вывалился человечек. Уткнувшись
лицом в землю, человечек какое-то время лежал в полной неподвижности, потом
зашевелился, поднял себя на четвереньки, встал на ноги. С великим трудом,
выделывая "восьмерки", "девятки", "ноли", он
каким-то манером все же добрался до трактора, да и распластался под раскрытой
дверцей кабины. Отлежавшись, человечек, - а это был Саня, - попытался
взобраться на железную подножку, но всякий раз, как сонная осенняя муха,
ползущая по гладкому оконному стеклу, срывался и падал под трактор. Земное
тяготение явно превышало разлаженные его силы, все-таки в непонятной
настойчивости он тянулся вползти в трактор.
На нас, подошедших, он смотрел мутно видящим взором. Безуспешно поворочав во рту занемелом языком, показал головой втолкнуть его в кабину. Хоть невелик был росточком, да тяжеловат, попотеть пришлось, прежде чем затолкнули его в тесноту кабины, расположили в явном неудобстве на сиденье. Думали, к утру отоспится. Но, почувствовав себя на родном месте, вдруг распрямился, одной рукой ухватился за руль, другой нашарил рычаг передач. Шестерни долго скрежетали, зубцы все же попали в зубцы, большие колеса, а вместе с ними и трактор дрогнули, двигатель поднапрягся, и весь агрегат, качаясь и стуча болтающейся штангой, медленно двинулся вдоль домов к соседней деревне. По дороге не миновать было одно коварное местечко - узкий, высокий, без перил, настил через речушку, и мы, зная по слухам, как закончил свою жизнь не один развеселый колхозный тракторист, уже распростились и с трактором и с Саней.
Как же удивились, когда поутру, постреливая дымком из выхлопной
трубы, похожей на самоварную, лихо подкатил прямо к нам под окна Саня. С
достоинством вылез из кабины, поднялся в дом - чистенький, какой-то даже
праздничный, с ясным взглядом и смущенной улыбкой на лице.
- Ну, давайте, это самое,
что-нибудь поделаю Вам!.. – сказал он, видимо, считая себя обязанным
отблагодарить за вчера оказанное содействие.
С такого вот случая, завязалась наша, нельзя сказать, чтоб
совершенно бескорыстная, но дружба.
В любом деревенском хозяйстве, забот невпроворот, и лишние умелые
руки да еще сметливый крестьянский ум, куда как не лишние, даже если они
предлагают себя от случая к случаю. Да и мы позаботились, чтобы сам Саня не был
в накладе. И все-таки, кроме обычного "гареца",
как называл он свой дополнительный заработок, что-то еще приводило его в наш
дом.
Как уже упоминалось, Саня был человеком размышляющим. Из всего,
что окружало Саню в его, в общем-то, однообразной жизни, самым раздражающим,
нарушающим выверенный ход его дел, было, как я понял, начальство.
Начальников он не любил, всех, от мала до велика, хотя самым
большим для него начальником, к которому постоянно мысленно обращал он
копившиеся ото дня ко дню претензии, был колхозный председатель.
К начальникам Саня относил и партийного секретаря, и зоотехника, и
агронома, и заведующего гаражом, и даже кладовщика и всех не любил только за
то, что вместе с должностью присваивали они право командовать, и распоряжались
не так, как надо было по его мнению. Особенно раздражало его то, что по любому
подходящему случаю, начальники отправлялись отдыхать "на зеленую",
где-нибудь по-над рекой, в прохладной тени шелестящих листьями, берез. Саня
всегда знал, кто, где, с кем гулял "на зеленой", сколько бутылок было
там выпито, кому из прислужников отказали в компании. Причем, по поводу тех,
кто не был взят к развеселью, Саня радостно злорадствовал, особенно, если не
взятым оказывался кто-то из бывших его дружков-механизаторов, вознесенный в
одночасье в начальники председателевым расположением, - такие неизменно
вызывали в нем душевную аллергию.
Саня всему имел свою оценку, во все вникал с настороженным интересом, все толковал на свой лад. Похоже, во мне он нашел внимательного слушателя и, время от времени, удовлетворял гнетущую потребность издать в разговоре так раздражающие его неприглядности местной жизни. Если я возражал, или высказывал нечто отличное от его понимания событий, он тут же вскакивал, разгорячено махал короткими руками, кричал!
- Погоди! Дай, сказать! -
и, овладев вниманием, начинал рассуждать:
- Я так соображаю о
нынешнем моменте. Все дело в том, что справедливости нету. Жизнь - у одних
начальников! Понахватали добра, жиреют не хуже кабанов на дармовой картошке.
Себе и то, и сё. Сена - пожалте. Выпить - только
носом поведи: тут же поднесут. На работяг по всем статьям жмут. А начальника с
мутными зенками и к дому подвезут, и дверку откроют, под ручки с двух сторон. Голгочут: "Алексан Саныч, Алексан Саныч!.. - и в дом, на постельку. И сапоги стащут...
У-у, живоглоты. Не пашут, а брюхо разглаживают... - Всегда улыбчивое лицо Сани
твердело, раздувались ноздри с торчащими из них косичками черных волос, он
ударял кулаком по столу:
- Что за порядки, я
опрашиваю?! - Уловив сочувствие, кричал, - А-а-а! А я о чем говорю! Полная
бесхозяйственность и отсутствие справедливости!..
Разговоры у нас были долгие, бурные, хотя вина в доме мы не
держали и наперед предупредили Саню, что никакой бутылочки у нас на столе он не
найдет. Обедать - пожалуйста, чайку из самовара попить - пожалуйста. Но
водочки, даже стопочки - ни-ни!
Саня долго не верил, все приглядывался, прощупывал, тверд ли я,
верен ли удивительному для общего гулливого времени посту, даже сам доставал из
кармана и выставлял на стол, принесенный с собой "чирок". В
конце-концов, отступился, правда, так и не избавившись от сомнений, хотя все
последующие разговоры со мной неизменно вел на трезвую голову.
Разговор Саня начинал, обычно из туманного далека. - Вот, Сергеич,
что-то сильно я сомневаюсь в наших руководителях, - произносил он, выкладывая
на стол короткие руки и с какой-то особой значительностью устремляя взгляд в
пространство за окном. Выдержав паузу, убедившись, что я готов его слушать, он
переводил взгляд на свои руки, натуго сцепив пальцы и пошевелив телом, чтобы
плотнее упрочить себя на стуле, начинал рассуждать:
- Ты погляди, что
делается. Вчера мне председатель колхоза, велит: езжай на Кочкары, там стог на
поле с прошлого лета стоит. Сожги, - пахать надо. Я что - руку к козырьку:
слушаюсь, говорю, товарищ начальник!.. Еду, переваливаюсь по колдобинам. Сам
думаю, с чего бы это приказание такое? Прошлым летом план по сену тянули, едва
вытянули. Зимой, коровы морды от этого сена воротили. За чужой соломой машины
гнали, в соседнем районе пришлось закупать. Теперь что, - с глаз долой? Чтоб
все шито-крыто?.. Еду, думаю. Дотянул до луга - стожище тонн на пять. Сколь
труда вложено, и все - под спичку?! Нет, соображаю, больно умны начальнички, -
потом на меня и повесят это дело!.. Воротился, так и так, говорю. Председатель
голову набычил, пузо через ремень, ровно мешок с отрубями, на меня не глядит.
Крикнул Кольку-Балабола, наказал ему дело спроворить. Тому чего,
за лишнюю десятку хоть правление спалит! К вечеру, гляжу, на Кочкарах дым к
небу потянулся. У председателя ладошки чистые, Кольке-Балаболу - премия, мне -
шиш, вот этакий! - Саня из пальцев сделал дулю, поднес к дурашливо раскрытому
рту, показывая, как обошли его начальники.
Что-то в его рассказе показалось мне не совсем ясным, попробовал
раскопать эту самую неясность.
- Не понял, - говорю, -
что тебе не по нраву: то, что сено сгноили или то, что премией обошли?..
Саня глаза прищурил, повел головой с прямо торчащим носом, словно
принюхиваясь к неприятному вопросу, вдруг закричал:
- Ты что, думаешь, мне
премия их нужна?! Насрать на их премию, мне своих заработанных до конца жизни
хватит! Говорю, в колхозе непорядок. А что до меня, вот что скажу: дальше
солнца не угонят, в землю не воткнут. Вот так!
День стоял ясный, тихий, да не в радость Сане! С обеда завязали его паскудным делом, - быков на ферме спасать. Быки, почитай, с прошлого месяца в дерьме тонули. Вот Саня и ворочал, за ворота гору навоза вытолкал, "танку" испоганил, сам на неделю дерьмом пропах. Все бы ничего, не впервой; колеса да нож пообтерлись бы в другой работе. И все же Саня с фермы возвращался в хмурости. Обида сидела в нем со дня прошлой получки. И о того, что робел он высказать свою обиду начальникам, настроение от дня ко дню хужело. Дело было, как Саня считал, принципиальное: в зарплату не додали ему за три дня, вроде бы не был записан ему выход на работу. Саня же доподлинно знал, что гулял он один-единственный день, и то по всем понятной причине: хромого дедушку-соседа провожал на погост, всей деревней поминали душу его, еще не отлетевшую от тела. А там, где все, нельзя не быть Сане: помянул, как положено. На другой день, не с самого утра, но грузил силос на Починковской ферме. И все это было записано в собственной его тетради! Надо сказать, что Саня, усомнившись в председателевой бухгалтерии, сам стал дотошно записывать в толстую тетрадь складывающийся распорядок своих рабочих дней: где был, что делал, сколько часов проработал или по дурости начальников простоял на объекте. Писал все, как есть, по правде. Когда случалось загуливать, так и писал: 7,8,9 - отгул. И записывая такую трудную статью в свою тетрадь, всегда чувствовал за собой моральное право на отдых: в колхозе молотил он без выходных, отпуск ему давали не тогда, когда нужда приходила, а когда вздуривалось начальству. Потому и считал он вправе самолично распорядиться собой и заработанными наперед вольными днями. К тому же тщательный подсчет показывал, что отгулов у него всегда получалось меньше, чем отработанных воскресных дней.
И вот, к этой самой зарплате значился в тетради только один день
отгула, а в председателевой бухгалтерии три! Из окошечка кассы Саня молча
принял деньги - на людях всегда он все делал молча, - но дома провел раскладку,
по дням и даже пот его прошиб, - такой несправедливости не ждал он даже от презираемого
им начальства!
И Саня затосковал. А в тоске, какая работа - нервная, без
любования. И как только сдвинул он навозную гору от ворот, тут же вывесил
обляпанный ошметками бульдозерный нож, в сызнова поднявшейся обиде покатил к
деревне. Болтающая позади стрела, освобожденная от ковша, постукивала по
штанге, железный стук долетал до запольного леса, гулко отзывался в безветрии
вечера. Но Саня даже не взглядывал в поле, где в красноватом свете низкого
солнца томилась выходившая в колос рожь. С какой-то даже мстительностью внимал
он железному стуку стрелы, особенно резкому, будто пушечной выстрел, когда
трактор встряхивало на ухабах. За мутными стеклами кабины проглядывалась как бы
застывшая в одном положении голова Сани с нацеленным вперед носом, с невидящим,
казалось, взглядом. Не остановил Саня трактор даже на перекрестке, близь
приятелей-механизаторов, весело приветствовавших его выразительными жестами. В
другом настроении непременно распахнул бы дверцу, держа достоинство, поставил
бы на железную ступеньку ногу, спустился бы на землю, каждому, стеснительно
улыбаясь, пожал бы руку, послушал общую болтовню, пропуская мимо ушей, говор
балаболов, и цепляя умом то, что могло бы обернуться для него пользой.
На этот раз он не повернул даже головы к скалившим зубы приятелям,
прокатил мимо, будто перекресток и дорога, уходящая в деревенскую улицу, были
безлюдны. Нетерпение, обжигающее нутро, заставляло его подбавлять ходу
трактору, и последний километр, старенький, но безотказный в его руках
тракторишко, тарахтя мотором, катил уже неостановимо мимо домов, людей,
разбегающихся из-под колес кур, взлаивающих собак, как конь, учуявший после
долгой дороги запах родной конюшни.
Перед своим домом, проглядывающим сквозь зелень палисада голубыми
наличниками и стенами, покрашенными в темноватый медовый цвет, Саня остановил
трактор, опустил, как положено на землю тяжелый бульдозерный нож. Зная, что
оставляет трактор надолго, перекрыл краник, плотно прихлопнул дверцу кабины,
пошел, переваливаясь с ноги на ногу, к колодцу, долго отмывал под рукомойником
руки, плеснул на щеки, на голову, утерся тут же висящей полотниной.
Посвежевши липом, взглянул, было на штакетник, припасенный для
ремонта ограды, тут же потускнел, прихмурился, заковылял к крыльцу, рванул на
себя дверь.
- Нюрья!
- закричал тонким голосом.
На мосту появилась Нюра, встала, как гора, глядя сверху, вытирая
руки о фартук. По виду, по блеску в глазах, догадалась, к чему рвется
нетерпеливая душа вернувшегося с работы муженька.
- Опять за свое? -
воспросила грозно, наперед зная, что дурь, накатившую на хозяина, ничем уже не
остановить.
Саня глупо, под дурачка, улыбаясь, втянул голову в плечи,
поднырнул под ее руку, гулко протопал по мосту в горницу. В углу, под
специально навешенной одежкой, нащупал ящик, вытянул за гладкое горлышко
бутылку, выставил на стол. Из-за печи принес стакан. В нетерпении зубами вырвал
с бутылки закупорку, набулькал в стакан до краев.
Теперь, когда все было перед ним, Саня успокоился, как-то даже
свял. Растягивая ожидание, посидел, щурясь на пробивающийся в комнату через
окно закатный солнечный луч, огладил зашершавивший подбородок, Медленно поднес
к губам стакан, запрокидывая голову, выгибая натруженную за день спину, выпил
неотрывно. Подождал, пока не поутих нутряной жар, снова налил.
Когда Нюра, приделав дела, нахмуренно вошла в дом, в горнице орал
включенный на всю мощь телевизор. Саня лежал на диване в ситцевых трусиках, в
короткой майке, раскинув худые волосатые ноги.
Нос был нацелен в потолок, губы маленького детского рта успокоено улыбались.
На полу, у дивана стояли в ряд три еще не раскупоренные бутылки. "Ну, это
надолго", - подумала Нюра, с привычным тяжелым вздохом. Взглянула
усмешливо на синюю знакомую татуировку на груди у Сани, где была наколота
кудрявая женская голова с назидательной надписью под ней: "Вот что нас
губит", сплюнула, не по-бабьи отчаянно выругалась, заглушила телевизор, не
убирая со стола, пошла в огород.
Но бывали у Сани и спокойные умственные дни, когда, припомнив
давнее приглашение, он, помывшись, приодевшись, заявлялся к нам. Гостем сидя за
столом, не спешил выказать свое отношение к отсутствию обязательной во всех
прочих домах стопочки, вроде бы с равнодушием глядел на щедрое угощенье,
стараясь всем своим видом показать, что пришел не пить-есть, а так, поговорить
по-человечески.
Навалившись боком на стол, подперев голову рукой, задумывался. Мысленно возвращаясь к хранимой в памяти нежной и горькой поре своей жизни, тихо, как-то печально, начинал вспоминать детство.
Впервые Саня глянул на мир бессмысленными еще глазенками в канун
войны. Отца память не запечатлела, - ушел воевать и сгинул. Мать, набедовавшись
за войну, едва поставив, дитятко на слабенькие ножки, увела его к деду. Сама
отдалилась в края неведомые искать судьбы, да и сгинула, как и отец, хотя войны
уже не было. О дедушке (или, как звал его Саня "дедушко"),
Саня вспоминал не иначе, как уважительно, лицо его светлело, взгляд
размягчался. И хотя говорил он о нем, как и обо всем прочем, трудно и путано
сбиваясь на ругань, против всякого рода начальников, чувствовалось, Саня очень
даже хорошо понимал, что без забот своего "дедушко"
в жизни не удержался бы.
Дедушко жил тяжко, ничего, кроме дома, не нажил. Одной
смекалкой жил, да вечным копошеньем вкруг дома. Но добр был, и в наставленьях
заботлив. "Ты, внучек, наперед не торопись, - учил. - Приглядывайся. Ума
себе прибавляй. От того, другого ли..."
Саня, внимая словам дедушко, рос позади
всех. Спрашивали - отвечал, не спрашивали - молчал. Слушал тех, кто речи
говорил, вникал, как мог в то, что говорили. Из школы на четвертом году ученья
сбежал. Пристроился прицепщиком к приветившему его трактористу Егорию, человеку
могучему, подстать по могучести своему тяжелому трактору.
Безотвязно проводил дни и ночи при Егории и его тракторе. Через
него и судьбу свою определил, и дедушко под конец его
жизни успокоил: при деле оказался внучоночек, стало быть, не пропадет.
Саню, среди других, послали учиться на тракториста. И Саня
преуспел: позабыв наставленья своего дедушко, вышел
вперед других, и пошел безоглядно и ходко по сготовленной колее.
Первым вернулся с учебы в село, первым получил выбракованный
колесник. Долгим старанием из хламья собрал безотказного трудягу. И не только
себе в радость. Руководство колхозное тоже ведь не без сообразительности -
крикунам новехонькие машины, чтоб глотки заглушить, старательному - и работка
под старание! Разбитые, брошенные трактора с тех пор торжественно вручались
Сане. А поскольку, по причине природной
стеснительности, он не был приспособлен возражать указаниям начальников, и
оттого, что всякая, даже малая похвала, тут же размягчала его ответной
благодарностью, Саня покорно принимал неходовых калек. До одури возился в
замасленных железяках, где-то что-то заменял, где-то что-то выпрашивал за
будущие услуги, в конце-концов возрождал безголосый тракторишко и работал на
нем исправно до очередной председателевой надумки.
С погрузчиком, Саня породнился не сразу, - и так и этак
приглядывался, вникая в его многодельность,
приноравливал в думах к хозяйственным своим нуждам, в конце-концов затосковал.
А тоска, если она являлась, уже не оставляла Саню до тех пор, пока не
избывалась делом или затворническим загулом.
Председатель по первоначалу отмахивался от робких Саниных намеков.
Однажды под настроение, сказал:
- Да бери, вон, списанный!
Все одно, - в лом пойдет...
Саня взял. И снова уже, в нетерпении, копошился-трудился,
винтил-отвинчивал, кувалдочкой постукивал под насмешечки
"комсомольцев", молодых, удачливых, умело слизывающих сливки с любых
колхозных работ, молча, притаено, делал свое дело.
В один из дней выехал из ворот на волю, по виду - на ободранце, по
работе, как потом оказалось, безотказном кормильце.
Саня знал, к чему шел. Погрузчик, смонтированный на стареньком
"Беларуси" стал продолжением самого Сани, его руками, ногами, его
достоинством, его силой. Теперь любое приделье было
ему по плечу: лесину ли подтянуть, котлован ли вырыть, а то и стометровую
траншею, столб опустить в яму, загладить дорогу, погрузить-разгрузить, ко всему
приноровился Саня, все возможности прочувствовал в машине. Теперь уже не Саня
просил, его просили, - колхоз велик, мало ли у каждого забот! И расплачивались
с Саней наличностью, и хотя Саня никогда сам не назначал цену, брал, что
давали, прочно закрепилась за ним кличка "Дорогой". "Саня-Дорогой",
понимай, как знаешь: то ли дорого берет, то ли дорог он тебе, как безотказный
трудяга, друг.
Старушек и старичков Саня жалел, помогал без какой-либо корысти -
помнил про своего «дедушко». А с вольно и крепко
хозяйствующих брал, вроде бы сердясь и отнекиваясь, но брал. И такая
особенность при том была в его характере: он точно оценивал свою работу и,
ежели хозяин переплачивал, с охоткой откликался на очередной его зов. Но ежели
расплачиваясь, работодатель дешевил, Саня молча уезжал. И потом зови его,
златые горы сули - к такому жмоту уже не возвращался. Единственное, что в
известную пору могло сломить его - припасенное хозяином вино. В такую
беспросветную пору, сдавив, обиду, Саня хмуро, молча делал нужную хозяину
работу, прихватывал бутылку, не простившись, укатывал домой. Тут уж ничего не
поделаешь - слаб человек в человеке!
Саня хорошо помнил гулливое, так называемое застойное времечко на
Руси, когда все, сверху донизу, пропивали страну и совесть. И водка, и
бормотуха тогда лились рекой - пей, не хочу! Загулы тракториста, скотника,
деревни, а то и целого колхоза после очередного собрания, в святые и не святые
праздники, были делом хотя и сатанинским, но поощряемым. Да и с совещаний
районных и областных, люди возвращались с красными лицами, блуждающим взглядом,
и дома допивали то, что не спроворили выпить в общем застолье.
Командовал Саней в ту пору развеселый председатель. По уму -
генерал, по хозяйской расторопности - старшина, по знаниям - полевод и
животновод, по уменью понимать человека - не ниже областного партийного
секретаря. Широкая натура, что ни делал - все с размахом, да так, чтоб каждого
возбудить личным интересом, через личный интерес к общему делу приобщить.
Помнил Саня, как рыли траншею под теплотрассу, дело к зиме шло,
торопились трубы уложить, а метров пятьдесят траншей между домами не докопано,
- машиной не подступишься, только лопатой да руками. Копали, тут же учуяли
нужду, цену выламывают, с ленцой по метру в день отколупывают. Глядел-глядел
председатель, да в горячке рванул в магазин, притащил ящик водки, через каждые
два метра расставил по бутылке: доконаешь - возьмешь. За один день траншею
пробили! Такой человек был. И Санина жизнь вроде бы сама собой выстроилась по
властному характеру председателя: работать, так работать, гулять так, гулять!
Не раз за одним столом вместе сиживали! И когда отупевал Саня от работы, тоска
охватывала душу, и, сидючи дома, заливал он тоску и
день, и три подряд, и ежели точно в эти самые дни поспевала неотложная
колхозная работа, председатель сам заявлялся в дом. Понимающе смотрел на Саню,
бесчувственно лежащего в трусах и майке поперек постели, тряс, бил по щекам,
приводил в пояснительное сознание, тут же внушал с генеральской
непререкаемостью: завтра чтоб на работе был! И Саня даже замутненной головой
усваивал председательский приказ. Поутру, лицом опухший, с глазами, похожими на
совьи, ковылял неверными шагами к своему "танку", не скоро, но
раскручивал шнуром пускач, заводил, влезал в кабину и снова на неделю, а то и
на месяц завязывал себя работой.
Удивительно, но за долгие годы Саня и трактор так срослись, так
приноровились один к другому, что, казалось, трактор, как понимающий хозяина
конь, мог доставить Саню к дому в любом состоянии.
Да, было времечко, и трудовое, и гулевое!..
Когда в колхозе сменился председатель, для Сани настали
непривычные времена. Новый председатель был хмур, медлителен, распоряжения
отдавал через помощников, и Саню не то чтобы невзлюбил, потакать перестал. Саня
вроде бы и старался, и в безотказности любую работу исполнял, а вот раз-другой
в очередной тоске, запивал. Председатель не вникнул в Санино положение, не
захотел в конторскую свою голову вложить, что когда надо, он от зари до зари
без выходных колготится на самых бросовых работах, что старый облупленный его
погрузчик всегда в работе, ни в одно лето в ремонт не вставал, не допер
канцелярским умом, каких нервов, каких сил стойло Сане трудовая его
безотказность.
И случилось три дня, укрывшись дома, Саня никого не признавал. На
четвертый, председатель увел от дома погрузчик, посадил на "танку"
несмышленыша "комсомольца". Саню приказом, вывешенным на доске у
Правления, определил скотником на ферму, на всеобщий, так сказать, позор. От
такого не то, что запьешь - света не взвидешь! Неделю Саня гудел, не выходил из
дома. Выполз, наконец, на крыльцо, опухший, в щетине, сидел, свесив с голых
колен руки. Нюрья истопила баню, обмыла как малого,
отправила на ферму.
С лопатой да вилами, в полной молчаливости изживал Саня свой
позор, отрабатывал председателево самоуправство под началом презираемых им
"комсомольцев".
Русского человека ничто не может так уязвить, как
несправедливость. Издревле это у него. Вот и у Сани было свое понятие
справедливости. И переживал он не столь за вилы и лопату, сколь за эту самую
справедливость.
Недолго гоношился Саня на ферме.
В две недели лихой "комсомолец" вусмерть загнал
погрузчик. Раскуроченный, с порванными жилами, без всякого признака жизни,
бросили его в углу машинного двора на металлолом. Саня в молчаливом сострадании
издали глядел на свою "танку", чувствовал себя обезрученным,
обезноженным, вроде бы даже без сердца.
Председатель пыжился, пыжился, все же уразумел, что значит в
большом хозяйстве без погрузчика! Призвал Саню. За большим столом долго, сидел
молча, бровь над глазом скреб пальцем, самолюбие утишал, наконец, нахмурясь,
приказал:
- Забирай свой погрузчик.
Да, смотри, у меня! - и кулаком поприжал бумаги.
- А чего смотреть-то? -
думал, уходя, Саня. - Сам соображай, что к
чему!
Воистину, русский человек мыслит слово творением! В речи Сани
обычно путанной, когда тужился он выразить какую-то отвлеченную мысль, слова
вдруг высверкивали гранеными алмазами, если говорил он о делах житейских.
Из леса пришел, на руке корзина. Спросил:
- Небось, гриба ныне и не
пробовали? - выложил на стол - Ешьте! Грибы-то в мокрый год по канавам растут.
На упоре солнышка! И смотрит довольный, - вразумил!
В другой раз пришел, руку левую, как ребятеночка, качает.
- Ты чего это? -
спрашиваю. Отвечает:
- Рука стонет! Рука для
него существо живое, душу, язык имеющее.
После угощения разомлел, нос залоснился. Откинулся на спинку
стула, вроде бы не к делу, сообщил:
- Хомут ныне приснился, лошади до гроба не видать!..
- Лошадь-то зачем? У тебя
- трактор!
Саня отмахнулся.
- Да не о том я! Жизнь в
непонятную сторону заворачивает, - ни тебе колобушки, ни витушки...
В другой раз о собрании, что начальство велело созвать.
- Народу там всякого калибера. Понабрались - речи толкают!
- Ты-то, что не пошел?
Засопел, глаза в сторону:
- Хороший нос за неделю
кулак чует!
Спросишь: каковы нынче заботы у председателя? Тут же в ответ
скороговоркой:
- Тихо-глухо. Богу весть,
болтать не велено!
Но, бывает, распалится. В несогласии с моей разъяснительной речью съерзнет со стула, встанет, маленький - стол по грудь -
руками, замашет, закричит:
- Да, погоди, дай сказать?
- и такую густую кашу из слов заварит - ложки не сыщешь расхлебать!
Обиду выпустит, на стул обратно опустится, произнесет, вроде бы
уже в глубокомыслии:
- Нет, Сергеич, всего не
переделаешь. Это в молодых годах делами живут. А старые люди, как наблюдаю, по
силам действуют...
- Ну, тебе-то сил не
занимать?
- Что правда, то правда:
от зорьки до потемок - все в работе, - согласился Саня.
- И скажи: для чего
работаешь?
- Чтобы жить.
- А живешь для чего?
- Чтобы работать! - и
смотрит удивленно младенчески чистыми глазами: нашел, о чем спросить!
Говорю:
- Все же, вино мешает
тебе, и работать и жить.
По круглому лицу Сани медленно расплывается улыбка несогласия. С
минуту прибывает в молчании, наконец, находит объяснение:
- Все от обид, Сергеич.
- Да, ты и без обид
горазд?
- Не-е... Пил, раньше пил.
И самовары мял! Теперь с этой самой безалкоголизацией
все с ума посходили. Поужали нашего брата. Учуят дух не тот, враз деньгу из
заработанного выхватят! С пустым карманом к дому притопаешь. Нет, шатуны ныне позагородами пробираются. По радио шумят: пришло время
нацию от гибели спасать! Расхристосился народ,
говорят. А нам-то от того одно стеснение.
Унылость одна...
Проговорил все это Саня и вдруг в крик:
- Такая вот обезьяна кракаду! - и засмеялся довольный своей же абракадаброй.
Так вот и разговариваем, пытая, друг дружку, оставаясь, каждый при
своих мыслях. Бывает, потянет Саню за сочувствием. Скажет, раздумчиво:
- Сергеич, такой вопрос
возникает. Идешь с добром в уме, а тебе от ворот поворот! - Помолчит, молчанием
придавая важность начатому разговору, пояснит:
- Пришел на праздник к
старой своей любови. А она: "Вот, стопку тебе
вынесу, а в дом не ходи!..". А я, может, на свою дочь пришел глянуть!
Непредельное это отношение, скажу. Жили, стол, постель делили... На тебе
стопку. Откупилась! - Посидит, отяжелев думой, раздув шею. Вдруг вскинется, как
ребенок, узревший порхнувшую бабочку, вскочит, грудь колесом, изречет:
- Ха! Отобрали хомут у
лошади!.. - Постоит, уперев взгляд в угол, снова молча углубится в стул.
Разные разговоры затевались меж нами. И все же трудно было знать
из всех его разговоров, какова же главная жизненная забота Сани?..
Не сразу разгадал я замудреную его тактику, но один из разговоров
помог.
Пришел как-то Саня расстроенный, молча протиснулся между столом и
лавкой, сел, отстраненно подперев рукой щеку.
На мои расспросы мычал, будто зуб у него болел. Наконец, раскрутив
в уме обиду, сказал медленным, каким-то даже трагическим голосом:
- Я так скажу, Сергеич: все беды от дурных начальников, безобразие расплодили кругом, одна видимость дела. А чуть начнешь порядок у себя наводить, коршунами из-под небес, будто мы не люди, - выводок цыплячий. Вечор слышу, машина у дома затормознула, дверки хлоп-хлоп, начальнички пожаловали! Сам, замы, помы. Глазами туды-сюды по дому, по двору. Глянули через дорогу на поделки мои, меж собой переглянулись. В дом заходит, лик отворотил, видать, моя личность не по нраву. Вопрошает, будто он - ОБЭХЭЕС:
- Скажи, товарищ Клепиков,
откуда материал берешь на свои домашние постройки? Откуда столбы бетонные,
плита, трубы, кирпич?! В конторе накладных на тебя не числится, а поглядеть -
целый завод на твое хозяйство работает! Откуда, кто дает?!
- Честно скажу, Сергеич,
подрастерялся я от такого допроса, да обилия начальников. В нужде до их
кабинетов не достучишься, поймаешь, где на дороге, одно мычание в ответ. А тут
сами, через порог. Впору окосеть от такой уважительности! Стою, молву не
открываю. Как такое разъяснишь? Будто сами не знают, где и что без призору
валяется... Начальнички переглядываются. Сам общий приговор изрекает:
- Значит, так, Александр
Николаевич, все материалы, что беззаконно употребил на свое хозяйство, впишем
тебе в наряд. И наряд тот полностью оплатишь. Ясное дело?..
Причуда-то ясная, дело темное. Я ж каждую железяку, каждый кирпич
из земли ковшом выковыривал. Поля освобождал от бетонных пасынков, что
понатыканы при старых, еще от царя Гороха, телефонных столбах. Из года в год,
как жук навозный, очищал колхозную территорию, А он, в мое же корыто меня же
мордой! Нет, думаю, самодурствовать не дозволю, я тебе сейчас разъясню насчет
кирпича, и всего прочего. Забыл, чушка пузатая, как сам распоряжался с глаз
долой закапывать? Вспомни, как трубы от котельной в траншею на кирпичную подушку
клали, да все спехом, спехом, без всякого расчета, лишь бы скорей, загладить!
Сколь лишнего кирпича поразбросано было? Считай машин пять, если не боле. Куда
кирпич-то девать? Тебя же спрашивал?! Перебросали бы на недостроенный телятник,
все б в дело. А ты мне: не твоего ума забота! Зарывай да ровняй! Завтра чтоб
цветочки здесь росли! Комиссия принимать будет! Вот она, твоего ума забота!..
Сколь добра за свой век таким вот манером по приказу начальников
порешил - и труб, и плит бетонных, столбов, железных балок, сколь коров да
свиней подохших закопал, картофельной гнили, да всего прочего, чего глаз
начальственный не терпел, - умом не ухватить! Землю должно бы вспучить от той
бессовестной захоронки!.. Вот они наши начальнички!
Где тыщи летят, там труба широка, гони без дыму! А выковорил
из грязи брошенную железяку, тут тебя за грудки, к ответу! По правде это, я
тебя спрашиваю? - Саня вскочил, кулаки по воздуху летают, в лице гнев, - хоть
сейчас в бой! На меня глядит, как на ворога.
- Чего на меня-то воззрился? - говорю. - Ясно, что председатель не прав. Ты сказал ему?..
И случилось тут чудо-чудное. Так бывает в кинопоказах:
механик нарушает фокусировку, и только что отчетливое изображение начинает
двоиться, расплываться. Тут уж хоть глаза три, очки так и сяк поправляй, не
разглядишь, что перед тобой: герой или просто пятно без всякой определенности.
Весь геройский пыл с Сани стек, без того узкие плечики поддались, пальцы по
столу шарят, ищут, за что ухватиться.
Подпер Саня расслабленной рукой щеку, взгляд бездумный устремил в
окно.
- Ну, высказал все это
председателю? - не отступал я. Саня пошевелил губами, подбирая нужное слово,
вдруг рассердился:
- Да, что ты все
допрашиваешь! - закричал. - Поди-ка, да сам скажи!.. Я что, - снова свял Саня.
- Поставили - стой, послали - иди. Да и чего я ему скажу?..
- А то, что мне сейчас
говорил, - не сдавался я.
- Сказала бы рыба, да рот
полон воды! - изрек Саня, и так понравилось ему то, что так ловко он ответил,
что раскрыв рот дурашливо рассмеялся.
Саня хитрил. Я же решал довести разговор до полной ясности.
Говорю:
- Ты что, не знаешь, кто в
колхозе хозяин? Председатель или ты, и такие, как ты? По домам перемываете
кости начальству. А как выйти, да порядка потребовать - все в рыб
превращаетесь. Все для вас "тихо-глухо"! - уязвил я его любимым его
же словечком.
Саня вроде бы весь ужался в стул от коленок до круглой головы,
короткие руки сложил на животе, сидел с блуждающей по лицу невнятной улыбкой.
Пропустив через свой медлительный ум мою напористую речь, произнес в задумчивости:
- Я так скажу тебе,
Сергеич, плетью обуха не перешибешь. Вон Боков Вова полез на председателя
правду-матку искать, рога-то ему пообломали! Тихохонький теперь. Нет, наше дело
такое: руку под козырек - есть, товарищ начальник! - и пошел выгребать дерьмо.
Вот, ты, Сергеич, - осторожно подвел Саня разговор, к затаенной до самого этого
часа мучающей его мысли. - Ты, Сергеич, все ж к высокому начальству вхож. За
ручку здоровкаешься. Иной раз кто из самых-самых
начальников у тебя гостевает. Навел бы ты их в
председателево безделье вглядеться. Нутряные непорядки они бы враз выправили!
Изумленно глядел я в наивные, доверчиво устремленные на меня
глаза.
- Ну, Саня! Ну, Санечка! -
выдохнул я. - Ты дом мне построй, порядок наведи. Тогда и я заживу. Так, что ли?..
- Не, - невозмутимо
ответил Саня. - Ты мне начальничков поприжми. А дом сам поставлю. Надо будет -
и два!..
Сказал твердо, как обрезал.
Таким Саню мы еще не видели! Тарахтящий трактор поставил под самые
наши окна, дверку распахнул лихо, из кабины спустился на землю, с важностью,
будто президент из самолета. К крыльцу пошел неторопливо. И в дом взошел, на
пороге не задержавшись, кепочку с головы сбросил в угол, на сундук, стул
придвинул, сел к столу, возгласил:
- Все, Сергеич, давай
наливай. Конец твоей безалкоголизации! Полная
демократия установилась. Пей-гуляй, никому никакой запретности!
Внимательно посмотрел я на Саню. Он выдержал мой взгляд. С
каким-то даже вызовом протянул руку, показывая, что ждет и готов принять
стакан. Глаза развеселые, из глаз чуть ли не черти рога кажут!..
Поглядел я, поглядел, говорю:
- Саня, дорогой. Похоже,
ты адресом ошибся. Демократия до нашего дома не дошла, и навряд ли доберется.
Так что извини, но для гулянья не то место выбрал.
Саня руки на животе сложил, взгляд увел в окно. Пробыв в таком
состоянии довольно долгое время, поднялся, взял с сундука кепку, накинул на
голову, сказал осуждающе:
- От жизни отстаешь,
Сергеич!..
... Из окна видно было, как, переваливаясь на коротких своих
ногах, шел он к дому соседа-артиста. Артист, слыл человеком общительным,
известность и симпатии многих обрел неистощимым запасом вина. Нетрудно было
догадаться, чем закончится для Сани их демократическое братание.
Трактор долго тарахтел под нашими окнами.
Уже в сумерках увидели, как от стены дома соседа оторвалась
маленькая человеческая фигура, проделала два быстрых шага, повалилась на траву.
Что за человек приник к матушке-земле, разгадывать нужды не было.
Саня повторял уже известный нам номер. Переглянулись мы с хозяйкой, поняли друг
друга. Собрались провести горемыку в дом, уложить, хотя бы до малой
просветленности, но из соседнего дома бодро шагнули два мужика,
предупредительно волоча за собой брезентуху.
Бесчувственного Саню закатили на брезент, потащили волоком к трактору, долго
впихивали в кабину, кое-как умостили между рычагами и сиденьем. Прихлопнули
дверцу, с сознанием выполненного долга ушли.
Трактор продолжал тарахтеть. Вышел, было, я растолкать Саню, чтоб
хотя бы заглушил двигатель. Но за стеклом кабины обозначилась голова. Мотор
взвыл, притих. Бульдозерный нож поднялся. Что-то заскрежетало. Трактор дрогнул,
медленно двинулся, виляя передними колесами, отчаянным стуком металлической
штанги, разрушая молчаливый сумрак наступающей ночи.
Знакомая картина! Жизнь умеет повторять то, что, казалось бы, уже
прошло, в конце-концов привыкаешь к ее причудам. И все-таки на этот раз было
тягостно.
Хозяйка, глядя на удаляющийся трактор, сокрушенно качала головой:
- Ведь не проедет. На
мостке свильнет. Ей-богу, свильнет!..
Я был в не меньшей подавленности. Все же счел возможным обнадежить
себя и хозяйку, сказал:
- В прошлый-то раз,
обошлось!..
- То - в прошлый! - не
соглашалась хозяйка.
Женское сердце - вещун. Так оно и
случилось: тот высокий узкий настил над речкой Саня не проехал.
...Саня лежал в гробу, сделанном по его росту соседом-плотником
Маленький, как подросточек. Большая голова покоилась на белой подушке и
непривычно, даже как-то жутко было смотреть на почернелую половину его лица: от
правого виска к шее все было иссиня-черным с багровостью в подглазье. Сельский
врач, смотревший Саню, сказал, что Саня умер прежде, чем трактор ушел в воду -
разорвалась главная жила, питающая мозг. И все согласились, потому как Саня в
любом, даже самом невозможном состоянии, этот узкий мосток через речку все же
проезжал, и всегда обходилось. Господь берег. А тут, видать, отворотился,
потому, как много лишней вольности Саня допустил. Другая половина лица у Сани
была, как и при жизни, чистой, может чуть бледнее обычного, и не было в ней
отрешенности подобающей положению. Казалось, ресницы на веке подрагивают,
внутренним усилием приоткрыть глаз, и губы детского рта напрягаются что-то
сказать. Люди, молча стоявшие вокруг, как будто ожидали, что не протрезвевший
еще Саня, не открывая глаз, крикнет в неутоленной жажде:
- Нюрья!
Где ты там?.. Тащщи еще вина!..
Саня молчал. И как-то неловко было стоять и ждать, и смотреть на подурневшую от слез Нюру в черном платке, когда-то грозившую в сердцах отрубить пьяную мужнину голову. Теперь Нюра безжизненно сидела у изголовья гроба, пахнущего, вопреки горю свежеструганным тесом.
Каждого из теснившихся вкруг стола, па котором лежал в последней
своей домовине Саня, томили среди общего чувства утраты, свои думы. Кто-то с
грустью сознавал бренность всего живого, кто-то обдумывал прощальное слово, что
непременно придется сказать на погосте, кто-то, по-житейски, прикидывал, когда
начнутся обязательные при таком случае поминки. Соседки и родня по женской
линии, жалели молча вытиравшую глаза Нюру, про себя убежденно считая, что даже
такой беспокойный мужик в доме все же лучше вдовьего одиночества.
Старушки невнятно нашептывали молитвы, поминали многие добрые дела
Сани, что в незаметности творил он деревенскому люду. Разные, разные были думы
у тех, кто собрался на прощальное погляденье. А вот стоявший позади меня
председатель, прижизненная Санина заноза, долго и крепко молчавший, вдруг
нагнулся к своему заместителю, сказал с сожалеющим вздохом:
- Пить-то он пил. А ведь
умельцем был! Всю жизнь в безотказности. Эпоха уходит. Помолчал, добавил тихо:
- Демократия подвела...
Председатель был умным человеком. Жаль, что ум свой проявлял с
опозданием.
*
*
*
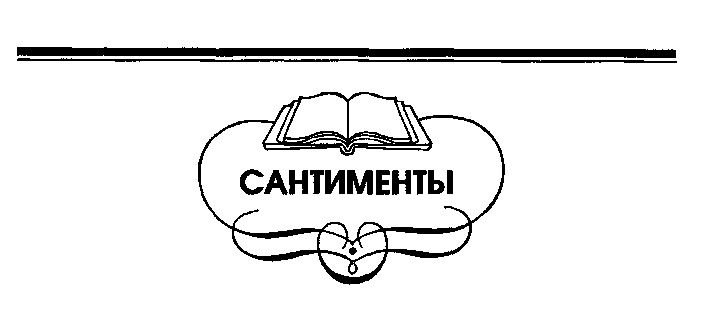
Кошки, иной раз, до удивления похожи на своих хозяев. В незримых
связях породняются они - хозяин и приникшая к нему животинка. Не умеющая жить
без дома, впитывает она в себя не только голос, облик хозяина, но характер,
повадки, даже выражение, которое устойчивее всех других держится в его лице.
Эта осторожная бело-рыжая кошка объявилась в нашей деревеньке в
семь домов, уцелевших от разора, и теперь обретенных горожанами на предмет
чистого лесного воздуха, колодезной воды, грибов и ягод. Кошку в дни майских
праздников мы видели на руках у девочки из соседнего дома. Девочка, со светлыми
прямыми волосами, небрежно сброшенными на худенькие плечи, с узким личиком и
пугливо ускользающим взглядом, таскала кошку, охватив её поперек живота по
деревне. С каким-то циркаческим азартом она то отпускала её, то снова
схватывала, примеривала к шее, как теплый воротник, перевертывала брюхом
кверху, щекотала носом белую ее грудку, крутила за лапы, и кошка покорно, как
неживая, терпела ее забавы, только рыжий кончик её хвоста подрагивал и
перекидывался из стороны в сторону, как бывает, когда гладишь животное против
шерстки.
Девочку мы знали, как послушную мамину дочку, старательно
разучивающую под настойчивым руководством мамы игру на пианино. Мама и сама
иногда играла по вечерам сентиментальный вальс Чайковского, и мы, отложив дела,
открыв окна, благодарно слушали знакомую мелодию.
Потому кошка в ловких руках девочки как бы наперед была признана нами, как оберегаемая часть соседствующей с нами семьи.
В наш дом кошка впервые вошла вкрадчиво, замирая и прислушиваясь,
следила настороженно-изучающим взглядом из затененного угла, когда кто-то из
нас выходил на поветь.
Почуяв добродушие, подошла неслышными шагами, заглянула мне в
глаза, жмурясь, выгибая спину, потерлась ухом о мою ногу. Соглашение
состоялось. Кошке предложили остатки ухи, подношение она приняла. Ела неторопясь,
обнюхивала еду и, выбирая среди косточек съедобную мякоть, рыбьи головы грызла
с хрустом. Насытясь, отряхнула с брезгливостью лапы, села в сторонке, долго
облизывалась, чистила грудку, живот, потом взглянула зеленым, каким-то
ускользающим взглядом, муркнула и ушла.
Кошку мы приняли как случайную гостью, не предполагали, что
знакомство может продолжиться, даже как-то осложнит нашу, в общем-то,
устоявшуюся жизнь.
Соседи но окончании майских праздников уезжали в город. Мы видели,
как девочка понесла кошку к машине, но ее мама, определявшая по нашим
наблюдениям порядок в семейных отношениях, строго сказала:
- Это еще что за
сантименты?! Кошку оставь. Пусть ловит мышей!.. Ловить мышей в пустом доме
кошка почему-то не стала, перебралась под более надежную, нашу крышу.
Теперь, когда гостья обжилась и по вечерам успокоено лежала у моих
ног, поднимая временами голову и вглядываясь в мое лицо через вертикальные
щелочки зеленых глаз, удалось сделать два интересных открытия.
Во-первых, кошка, которую мы назвали попросту "Муськой"
(в кошачьих именах должен присутствовать звук "с", - на свистящий
звук кошки отзываются с особенной живостью), чем-то напоминала знакомую нам
девочку. В узкой, несоразмерной с вытянутым телом кошачьей мордочке было такое
же прислушивающееся выражение, какое заметили мы в лице девочки. Выражение это
было, как бы впечатано в бело-рыжих её щеках, вокруг холодно смотрящих глаз и
пестрого кончика носа, сохранялось даже тогда, когда Муська в блаженстве тепла
и сытости растягивалась на полу у креслица, в котором я любил сидеть и читать.
Стоило мне пошевелиться, она вскакивала, смотрела, жмурясь, на мои руки
туманным ускользающим взглядом, совершенно как смотрела девочка, проходя мимо
нас и притискивая к себе кошку. Постояв и убедившись, что встревоженность
напрасна, снова ложилась у моих ног.
Второе открытие было более существенным: крутые кошачьи бока недвусмысленно оповещали, что Муська вскоре одарит мир очередным потомством.
Мы не были настроены умножать количество бездомных кошек. По опыту
родных, истинных селян, еще недавно хозяйничавших в доме, мы знали, как
поступают в крестьянстве в подобных случаях: слепых, еще не изведавших жизни
котят зарывают в землю или топят в пруду. Занятия не из приятных, требующее
мужества. По законам порядочности, как считали мы, неприятную эту заботу должны
были взять на себя хозяева Муськи. Мы терпеливо ожидали, когда летнее тепло,
ягоды и грибы призовут в деревню законных охранителей Муськиной судьбы.
Несколько беспокоила нас непредсказуемость в появлении соседей:
они могли появиться поздно вечером и среди следующего дня уехать. Могли
приехать на три дня, и все три дня провести на речке, купаясь и загорая, не
перемолвившись с нами даже словечком.
Правда, девочка в первый же день приезда отыскивала кошку в нашем
доме, по праву хозяйки, с подчеркнутой торжественностью, уносила к себе.
Муська, однако, невзлюбила прежний свой дом, чувствовалось, она
уже искала необходимого ей покоя и неизменно возвращалась, мы обреченно
вздыхали: решать судьбу котят, видимо, предстояло нам.
Два дня Муська не появлялась ни в доме, ни на повети, не видать ее
было и в огороде, где обычно она подстерегала полевок.
С облегчением мы подумали, что в критический момент жизни, кошка
вспомнила о родном своем доме. Однако, на третий день, нетерпеливо промяукав,
Муська призвала нас отворить дверь, вбежав, жадно набросилась на еду. Бока её
были худы. Таинство свершилось, где-то, скорее всего у нас в доме появились на
свет котята.
Главной заботой стало теперь узнать, где укрыто еще безгласное, еще
слепое ее потомство. В большом крестьянском доме укрыток всякого рода
несчитано. Помню, дед рассказывал, что однажды пришлось ему выкапывать котят из
норы в завалинке!..
Судьба подготовила нам поединок человеческого ума с кошачьей природной хитростью - дорогу к родовому гнезду Муська должна была показать сама. Я помнил, как вела себя окотившаяся кошка у деда. Она вся была настороже. Торопливо ела, тут же бросалась в дверь. Если следом за ней шли на поветь, она, торопясь, забегала вперед, следила неотрывно за каждым движением, взглядом человека. Напряженные её уши осторожно, как локаторы, прослушивали тот угол, где она укрыла свое потомство. По настороженным ушам, по нарастающему в кошке беспокойству, когда кто-либо приближался к заветному месту, дед безошибочно находил гнездо.
А тут... Насытившись, Муська как бы в раздумье постояла, облизывая
влажным языком мордочку, подошла, потерлась о мою ногу и развалилась на полу,
всем видом своим, показывая, что никаких, тем более материнских забот, у нее
нет.
Мой изучающий взгляд она чувствовала, зажмуривалась, вытягивала
лапы, выказывая полневшее довольство, поднимала над полом узкую бело-рыжую
морду, смотрела мне в глаза через тонкие, как лезвие бритвы, щелки зрачков
ускользающим, мне все-таки казалось, настороженным взглядом.
Я нарочито шумно встал, направился к двери, Муська поднялась,
нехотя пошла за мной. Я пропустил её вперед. Она села на мосту, начала как
будто в полнейшем равнодушии себя облизывать, я с решительным видом двинулся на
поветь. Муська посмотрела на меня, как иная бабушка смотрит на неслуха-внука,
неторопясь пошла в противоположную сторону по ступенькам вниз. У колодца
присела, прижмурилась на солнышко, и такая безмятежность была в умильной её
мордочке, что я всерьез усомнился в ее материнстве.
Все мои попытки выследить родовое гнездо по кошачьим повадкам
оказались безуспешными. Муська ни в чем не изменила своего поведения: на ночь,
как всегда, она уходила из дома, днем подолгу лежала в комнате старательно
лизала заметно разбухшие соски. Мы решили, что котят она сбросила мертвыми,
успокоились своей догадкой и, жалостливо поглядывая на исхудавшее кошачье тело,
с еще большим усердием подкармливали. Ела Муська жадно, но насыщалась быстро,
тут же в блаженстве растягивалась среди пола.
Девочка время от времени появлялась, по-хозяйски бесцеремонно
забирала кошку, уносила к себе. Муська возвращалась в тот же день, обходила
комнаты, потом ложилась в холодке на повети, лежала обессилено, показывая, как
тяжка ей после утомительных Девочкиных забав. Мы, конечно, жалели, поочередно
гладили, Муська, измученно откинув голову, благодарно, в полголоса мурчала.
И все-таки, некоторые странности в ее поведении настораживали.
Если нежданно, в ранний или поздний час я появлялся на повети, Муська откуда-то
сверху, из-под крыши, стремительно неслась мне навстречу, припадала к моим
ногам, терлась, мурлыча, как будто не давала подняться по лестнице выше. В
сомнении я обследовал застрехи, подкрышные углы, но следов кошачьего гнездовья
не обнаружил. Муська наблюдала за моими стараниями с повети, жмурилась и
отводила взгляд, когда я испытывающе на нее смотрел. Недели через две в обычно
тихом доме появились какие-то глухие стуки. Казалось, кто-то, перепрыгивая из
угла в угол, простукивает потолок. Выискивает, где сподручнее проколотить дыру.
Странные звуки раздавались обычно в рассветный час и на закате дня. Мы
вслушивались, невольно поминали деревенские поверья о домовом, Жена не в шутку
тревожилась, плохо спала. Звуки ото дня ко дню становились явственнее: тот, кто
был наверху, явно смелел.
Я вновь тщательно обследовал чердак, и в этот раз не обнаружил в
подкрышном пространстве что-либо живое.
В один из дней сидел за своим верстачком на повети, вырезал из
дощечки замысловатый кисть-поясок на прохудившейся оконный наличник. И услышал
тихие, какие-то воркующие звуки. Прислушался, различил мурлыканье, нежное,
сладостное, умиротворенное. Скинул ботинки... Без шума, осторожно поднялся по
лестнице, заглянул под внутренний скат крыши и оторопел: у поперечной балки, на
теплой земляной засыпке, разнежено лежала Муська и четыре пестрых котенка
дружно жались к белому ее брюху, вытянув задние лапы и короткие хвосты.
Идиллия полнейшая! Умиляйся и возноси всесилие природы! Муська
уловила движение, подняла голову, смотрела на меня, выжидала, пока я был
неподвижен. Но едва сделал шаг, услышал её тихое короткое "М-ррр...". Четыре мордочки повернулись ко мне, четыре
пары глаз, уже умеющих различать опасность, озирали меня с нарастающим ужасом.
Муська ещё раз коротко мурлыкнула, и котята вмиг исчезли, будто их и не было.
Муська поднялась, приветливо мурлыча, пошла ко мне навстречу,
терлась о мою ногу, заглядывала в глаза, сочувствовала моей скорби, как будто
понимала, что люди уже непоправимо опоздали с вмешательством в судьбу её котят!
Нам говорили, что котята, открывшие глаза и не узнавшие рук
человека, вырастают дикими и, как правило, погибают в отчужденности от людей.
Но поднять руку на уже утвердившуюся жизнь мы не смогли. Задумали перехватить
возможность одичания, пока котята еще доверяли кормящей их матери.
Издали котят уже можно было видеть играющими на повети. Смешно
подпрыгивая, они азартно нападали на мать. Муська мягко придавливала то одного,
то другого лапой, с материнским тщанием зализывала каждому шерстку, отпускала
порывистых нетерпеливых резвиться. Едва я появлялся, слышалось короткое: "Мр-рр...", и котята исчезали. Из притемненных углов,
ворохов сена, старых половиков, ломаных стульев следили за мной настороженные
немигающие глаза. А Муська, растянувшись в квадрате солнечного света, жмурилась
на меня, утешающе мурлыкала.
Я делал вид, что мне нет дела ни до неё, ни до котят, садился за верстачок, занимался своим делом. Котята сторожко выходили из своих укрытий, в нетерпении играть снова собирались вокруг матери. Я шумно вставал, котята, словно рыбья молодь от щуки, разлетались по углам. В полнейшем равнодушии я уходил с повети. Тут же возвращался, садился, продолжал свою работу. С тем же пренебрежением еще и еще раз уходил. Муська уверовала в мое безразличие к её семейству, не отсылала котят от себя.
Я уже мог, сдерживая чувство удовлетворения, проходить мимо,
наблюдал, проходя, как, вжавшись мордочками и лапками в материнское тело,
четыре затаившихся звереныша следят за мной недоверчиво и любопытно. Стоило мне
приостановиться, котята, как подкинутые мячики, отскакивали, смотрели издали то
на меня, то вопросительно на Муську, недоумевая, почему осторожная, надежная их
мать не убегает от двуногого страшилища, дает себя гладить, даже мурлычет,
ласкается под его рукой!
Котят я уже различал. Все были разные по природной окраске, по
повадкам, два темношерстных, пятнистых дичились больше. Заслышав шаги,
замирали, неслышно перебирая лапами, крались вдоль стены в угол, где потемнее.
Два других светленьких, с белой опушкой по грудке и брюшку, вели себя более
спокойно. В руки тоже не давались, но, отбежав, садились неподалеку, насторожив
ушки, молча следили за моими движениями. Их-то и удалось взять в руки, когда
Муська, разнежившись, придержала их лапами. Увидев котят в моих руках, Муська поднялась,
встревожено глядя на меня, подошла, но, видимо, звериным чутьем уловила, что
человек, стоящий перед ней, не хочет зла ее детенышам, даже не мяукнула, только
проводила меня внимательным взглядом, когда я понес невесомых, почти
парализованных страхом зверушек в дом. Выпущенные в комнате, оба пленника
тотчас забились под буфет. К вечеру, оголодав, начали попискивать, призывая
мать.
Муську, неотступно сидящую у порога, в дом мы не пускали,
терпеливо выманивали котят молочком. Время от времени они высовывали мордочки
из-под края буфета, в конце-концов натолкнулись на подставленное блюдечко. Один
сразу замочил мордочку в молоке, быстро заработал язычком. Другой долго мыкался
вкруг блюдца, обиженно пищал, чувствуя близость спасительной еды, наконец, лапами
и носом залез в блюдце, по смешному прижав к затылку ушки, с пробудившимся
усердием стал лакать молоко рядом с братцем.
Мы с женой тихо радовались первому успеху, никто из нас не
помянул, какую судьбу готовили мы спервоначалу этим симпатичным существам.
Мы уже дотрагивались до котят, осторожно гладили по спинкам, когда
они припадали к молоку, брали дрожащих, отпихивающихся лапами, на руки,
обсуждали, кто из наших знакомых согласился бы взять в дом кошечку. Но в один
из дней пришла за Муськой девочка с прямыми, небрежно сброшенными на плечи
волосами.
Увидев лакающих молоко котят, она воскликнула:
- Ой! Это наши кошечки! -
Тут же ловко схватила обоих котят, придавила к груди, направилась к двери.
Несколько озадаченные поведением девочки, мы поинтересовались, что
собирается она делать: ведь котята еще дикие, они еще прячутся от людей?!
Девочка своенравно сложила губы:
- Котята наши! - повторила
она, выделяя голосом слово "наши".
- Но у Муськи еще два
котеночка!..
- Мы и их заберем, и
кошку. Заберем и всех увезем в город! - девочка ответила решительно, совершенно
в маминой манере и прихлопнула за собой дверь.
Старые люди трудно расстаются даже с малыми своими
привязанностями. Теперь мы выискивали случай, чтобы взглянуть к соседям.
Интересовались кошечками. Мама девочки, цветущая молодая женщина, встряхивала
золотом волос, уверенно отвечала:
- Привыкли. Играют, лопают
в три горла!
- Нельзя ли глянуть? -
робко спрашивала жена.
- Отчего же! - отзывалась
мама девочки, поводя красивыми загорелыми плечами, оглядывала сад, говорила с
сожалением:
- Прячутся где-то!..
И девочка, преданно глядя на мать, с торопливостью подтверждала:
- Наверно, под домом
сидят!
Долго бы пребывали мы в заблуждении, если бы другие, дальние от
нас соседи, не сообщили скорбную весть. Мы не поверили тому, что сказали нам,
мы просто не могли поверить.
В один из июльских дней девочка появилась перед нашими окнами, на
цыпочках, пробралась к нам на поветь. Я застал её с Муськой на руках. Не
смущаясь непрошенным своим присутствием в чужом доме, она пожаловалась:
- Хотела других котят
поймать, а они попрятались. У, противные!., глядя в угол, где прятались котята,
она сердито топнула ногой.
Случаи представился, сдерживая себя, я спросил:
- Скажи-ка, живы ли те две
кошечки, что давеча ты унесла?.. Девочка оскорблено, как-то даже зло, вскинула
глаза, хотела ответить, как всегда отвечала под строгим взглядом мамы, но не
выдержала, как-то вдруг сникла, упрятала лицо в черно-рыжую Муськину шерстку,
пролепетала, краснея ушами:
- У нас, их нет...
- Где же они? - спросил я,
стараясь не дать подняться темному нехорошему чувству. Девочка отвела глаза,
тихо, раздельно, как будто отвечала урок, сказала:
- Мама велела папе отвезти
их на лодке за реку. Чтоб обратно не вернулись. Они там будут питаться мышами...
Лицо мое, наверное, изменилось, девочка взглянула испуганно. Но
тут же вытянула губы, подула Муське на ухо, строжа меня взглядом, проговорила:
- Мама сказала, что они
много молока пьют. И вообще, все это - сантименты, сказала мама. И котята, и
кошка, и, вообще, все!..
Подняв плечи, прижимая Муську к горлу, она неспешными скользящими
шагами спустилась на мост, тоненьким голосом крикнула оттуда:
- А котята - наши! Если
хотите, можете оставить себе!.. Я ждал, что внизу, в крыльце, хлопнет дверь.
Дверь не хлопнула, но я знал, что девочка ушла: она умела неслышно появляться,
неслышно уходить...
2
Дерзкое откровение девочки мы пережили. Оставшихся на повети котят
мысленно определили в хорошие руки, городским знакомым. Мы и представить не
могли все сложности забот, выпавших на нашу долю.
Котята день ото дня все больше дичали, их трудно было увидеть, не
то, что подойти! Время от времени появлялась Муська, кормила их, жадных и
голодных, и не было заметно, чтобы она переживала потерю в своем потомстве.
Однажды, разнежившись, сладостно мурлыча от близости
присосавшегося детеныша, Муська подпустила меня вплотную. Памятуя, что будущее
оставшихся при ней двух дурёшек зависит от того, привыкнут или не привыкнут они
к человеческим рукам, я проворно нагнулся, отнял от Муськи, не распознавшую
моих шагов, доверившуюся матери темно-серую с белой мордочкой и белыми лапками,
почти невесомую кошечку.
Котеночек был в моей руке. Я торжествовал. Я и представить не мог,
что случится в следующую минуту. Худенькое с податливыми ребрышками тельце под
моими пальцами вдруг напряглось до каменной твердости, шерстка вздыбилась,
котенок превратился в яростно-шипящий шар. Угрожающее, звериное урчание
вырывалось из его утробы, на лапах обнажились ногти. Круглые, зеленые, как у
Муськи, глаза испепеляли меня ненавистью. Торжество было недолгим, мои руки с
проступившей из разорванной кожи кровью отпустили озверевшую крошку. И только
тут я заметил Муську: изогнувшись, как перед прыжком, она замерла у моей ноги,
и от нацеленного взгляда холодных её глаз мне стало не по себе.
В этот день я понял, что между врожденной дикостью и тревожной
человеческой заботой о кошачьем потомстве уже пролегла почти бездонная
пропасть.
Муська выводила теперь котят на волю. С грустью наблюдал я издали,
как под присмотром бдительной мамаши котята с беззаботностью играют среди сада.
Я не мог понять, какая сила заставляла кошку, прижившуюся к дому, кормящуюся от
людей, от них принимающую тепло и ласку, с настороженностью дикого зверя
отдалять от этих же людей свое несмышленое потомство? Люди разъедутся, дома
опустеют, землю остудят морозы, без тепла, пищи, без людской опеки потомство ее
неминуемо загибнет. Почему столь изощрённый в самосохранении кошачий ум не
способен заглянуть хотя бы на чуточку вперед? Почему бы ей не промурлыкать на
понятном котятам языке свою, уже опробованную связанность с людьми?
Что в упрямом их отчуждении? Насмешка природы над возможностями
человека или неопределенность еще, может быть, и преодолимая? Вражда между
зрячей человеческой разумностью и слепотой, заложенных природой, повторяемых в
поколениях, инстинктов? Ведь оставлена же в этом противостоянии, хоть малая, но
щелочка? На краткий миг, когда рожденное живое общество открывает глаза,
природа, на краткий этот миг уступает человеку право на доверие рожденного
существа. Если бы в миг своего прозрения глаза котят запечатлели склонившегося
над ними человека, человек вошел бы в их жизнь, как природная данность.
Инстинкт самосохранения и враждебности не сработал бы в их кошачьих умишках. Вся
беда была в том, что мы упустили этот миг, и природа возвратила себе извечное
свое право: прозревшие котята приняли в свой мир только мать с теплым её телом,
насыщающим молоком, с успокоительным её мурлыканьем да полутемное пространство
безгласного чердака.
Я старался заново пройти уже пройденный человечеством путь,
одомашнить маленьких дурёшек. И в этом своем старании все более познавал, как
разделены в действительной жизни два понятия - желать и мочь.
Надежды мои сошлись теперь на Муське. Растущие котята жадно ели
вместе с Муськой из миски. Но еду бросали и прятались, едва я появлялся, - я
видел их только издали, подозрительно взирающих на меня из темного угла повети.
Не слушая жалостливых уговоров жены, я собирал всю свою волю,
выдерживал ночь, день. Потом шел, ставил молоко на повети и уже не отходил.
Муська припадала к миске, я гладил её, она, не отрываясь от молока, благодарно
мурчала. Котята слушали ее голос, подкрадывалась из своего угла, мое
присутствие останавливало их шагах в пяти.
Голодными глазами, насторожив уши, они следили, как Муська
чмокает, насыщается, но оба сидели, словно прилипнув к полу: страх все еще был
сильнее голода.
- Ничего, ничего, еще
день-другой и подойдете, - думал я. Оглаживал усытившуюся Муську, уносил с
собой остатки еды.
Утром котята подошли поближе. Я отступил на шаг. Прячась за мать,
они по-звериному выхватили по куску из миски, но стоило мне пошевелиться,
отскакивали, не выпуская из зубов схваченные куски, смотрели на меня испуганно
и зло.
- Ничего, ничего, - говорил
я в пространство повети, и гладил Муську, показывая, что руки мои добры и
совсем не страшные. Оставшееся молоко с хлебом я снова уносил с собой.
Наверное, я преуспел бы в своем старании, не появись в один из
дней в нашем доме знакомая девочка. Вежливо улыбаясь и настороженно оглядывая
поветь, она сказала тоненьким голоском:
- А мы уезжаем... - Она по-хозяйски умостила на своем плече
Муську.
- А как же котята? -
встревожено спросили мы с женой в один голос.
Девочка пожала худеньким плечиком. Ускользая взглядом от наших
глаз, ответила не очень уверенно:
- Если вы поймаете и
принесете, мы, может быть, возьмем их с собой.
- А если не поймаем? -
спросил я.
Девочка еще раз пожала плечиком и тихо ушла, прижимая к себе
Муську.
3
С котятами мы остались наедине.
Звереныши, нежданно осиротевшие, жадно поедали оставленную миску с
супом, молоко с хлебом, но кормящими нас не признавали: с пугливостью еще
большей, чем при Муське, разбегались, заслышав мои шаги. Слепые их умишки никак
не могли связать два события: мое появление и появление пищи. Место, куда
ставилась миска, они знали хорошо, но при мне к миске не подходили. Для них это
было именно место, где можно было утолить голод.
Мне пришлось продолжить свою жесткую методу: два дня я не
выставлял еду. На воле холодало, лили дожди. Котята томились на повети, - в
углу, из копны сена настороженно торчали две головы. Когда я садился у
верстачка, котята издали с почти человеческим недоумением и ожиданием
разглядывали меня.
На третий день миску с кашей я выставил, не ушел, терпеливо стоял
в двух шагах. Смешно и грустно было наблюдать, с каким страданием голода и
страха преодолевали осиротелые зверушки путь к еде. Припадая к не струганным
доскам повети, прокрадывались они к влекущему их блюдцу, замирали,
подозрительно вглядывались в меня, стоящего в неподвижности. Последнее,
отделяющее их от миски расстояние, они буквально ползли, распластавшись,
вытянутые напряженные их тела дрожали. Косясь на меня, с жадностью насыщались,
от малейшего моего движения пугливо отскакивали. Торопливо утолив голод,
стремглав неслись по лестнице вверх, в безопасное место под крышей.
Но почин был: впервые без остерегающей их матери зверушки ели,
глядя на меня.
Еду теперь я не выставлял, держал на верстаке. Когда, котята
подбирались ближе, и, таясь под стульями, наблюдали за мной, я кидал им
маленькие кусочки так, чтобы кусочки катились. Инстинкт срабатывал: то один, то
другой выскакивал, придавливал кусочек лапой, замирал в ожидании, что кусочек
может снова побежать. Потом подсовывал нос, убеждался, что под лапой придавлено
что-то съестное, тут же проглатывал. Глаза его начинали шарить по полу, он еще
не мог сообразить, что еда появляется не сама собой, что пугающая их рука -
рука дающая. Постепенно, подкидывая кусочки, я подманивал их ближе. Котята
приметили, что кусочек появляется вслед за моим движением, и теперь в ожидании
кусочка следили за моей рукой. Мы познакомились.
Вблизи я хорошо разглядел обоих. Один был - серенький, с белым
брюшком и белыми лапами, с широкой симпатичной мордочкой. Тот самый, которого
так неосторожно я отнял от Муськи, поплатившись за поспешность своей кровью и
его ненавистью. В тот миг, когда я цепко сжимал худенькое тельце, глаза его
смотрели в мои глаза, они запечатлели миг насилия. И теперь, подросший
серо-белый с приятно распушившейся шерсткой котеночек, который, как мне
казалось, был кошечкой, заметно напрягался, встречаясь с моим взглядом,
отворачивался, опасливо переступал лапами, - прошлая моя оплошка осложняла наши
отношения.
Другой, черно-пестрый, в рыжих, как у Муськи подпалинах, с такой
же вытянутой мордочкой, не был столь симпатичен: угольно-черное пятно вокруг
правого глаза придавало ему какое-то пиратское выражение. Он и ходил крадучись,
широкими мягкими шагами, по-тигриному, глядя вбок. Еще в то время, когда всё
кошачье семейство было в сборе, он прежде других исчезал в полутьме, когда я
появлялся, и старался не попадаться на глаза. Был он, видимо, котом держался
независимо, я наблюдал, как пытался он ловить в огороде кузнечиков и
трясогузок.
Вопреки ожиданиям, первым ко мне подошел он. Возвратившись с воли
голодным, приблизился к моей руке и прямо-таки вырвал из пальцев кусочек рыбы.
Прикоснуться к себе не позволил, сердито отскочил, рыбу разгрыз посреди повети.
Этого кота, с пиратским черным пятном вокруг глаза, мы назвали Тигриком.
Наблюдая котят, я не мог понять, почему природа не позаботилась
заложить в кошачье племя ни малейшей заботы о своем будущем. Та же белка,
например, собирает в осеннюю пору грибы, накалывает их на сучки, запрятывает в
дупла орехи, шишки. Суслики, мыши создают в подземных норах целые кладовые,
чтобы пережить бескормицу и стужу. А котят-сирот с неподступным правом ни мало
не беспокоил не только завтрашний день, но и следующий час!
Конечно, их родословная шла от хищников, добывающих пропитание из
чужой живой плоти. Но даже среди хищников знал я лису, которая, вытащив из
капкана зайца и утолив голод, припрятывала остатки, зарывала их в снегу со всей
присущей ей хитростью. Эти же дурёшки, насытившись, беззаботно разбросав по повети
остатки еды, тут же начинали играть, носились из угла в угол, прыгали,
боролись. И только голод заставлял их на какое-то время притихать: они садились
от меня в отдалении и молча ждали подаяния.
Я возмущался тем, что, получая из моих рук пищу, они не проявляли
никакой привязанности ко мне.
Жена утешала:
- Чему ты удивляешься?
Тебя же не возмущает, что синичка, которую ты кормишь, тебя же пугается и
улетает. Зачем же сердиться на котят?
Я отвечал с досадой:
- Синица дикая, вольная
птаха. А кошка животное домашнее, без человека ей не прожить!
Сытые котята, играя, носились по всей повети, не обращая внимания
на меня. Я смирял свои чувства, помня о взятой на себя трудной задаче. Вовлек
котят в свою игру, привязав клочок газеты к бечевке, теперь они увлеченно
гонялись за шуршащей игрушкой, в азарте крутились у моих ног. Я коротил
веревочку, руку расчетливо спускал ниже, еще ниже. Я уже мог схватить любого из
них. Но, помня печальный опыт насилия, сдерживал опасный порыв.
Время приближалось к зимней поре. Беспокойство наше росло: зверушки никак не отзывались на ласку человеческой руки. Как мы ждали, чтобы уткнулись они сами холодными своим носами в тепло нашего плеча, успокоено, с благодарностью замурлыкали в восстановленном доверии к человеку!
Играя с кусочком газеты, котята наваливались боками на мою руку и
тут же, словно током ударяло их, - почувствовав живое движение руки, опасливо
отскакивали.
Преодолеть какую-то, может быть, последнюю настороженность их к
человеческому прикосновению не удавалось.
Серо-белая кошечка, которую я мысленно прозвал Лёсичкой, уже
сбегала по лестнице вниз на поветь, когда я появлялся у верстачка. Садилась в
двух шагах, охватив себя хвостиком, насторожив треугольнички ушей, смотрела
почти умильным взглядом: кошечка ожидала от меня чего-то вкусненького! Я
протягивал ей кусочек, она жмурилась, но с места не двигалась, ждала, когда я
уроню кусочек на пол. Придавливая лапкой, не торопясь, съедала. В этой же
неторопливости было что-то новое, обретенная её сдержанность обнадеживала.
Правда, руки моей, как и прежде, она сторонилась. Когда осторожно я протягивал
руку, кошечка поднималась, обходила ровно на столько, чтобы нельзя было
дотянуться до нее, сердилась, все в том же терпеливом ожидании.
Тигрик напротив, убегал все дальше от дома. Я не раз встречал его
на берегу озера. Уверенно, по-хозяйски проходил он тропкой, у воды
приостанавливался, осматривался, по-тигриному пригнувшись, сторожко крался
вдоль кромки, выслеживая лягушат и землероек. Я подавал голос, он настороженно
замирал, и тут же исчезал в непроглядности трав.
В установившиеся последние теплые дни удавалось, видимо, ему
добывать пропитание. Возвратившись на поветь, он без жадности принимал от меня
пищу, когтями зацеплял мои пальцы, зубами вырывал кусочек, ронял под лапы, гонял
по полу, как полумертвую мышку-полевку. Вел себя независимо, облазил весь дом,
забирался на крышу, на заборы, деревья и по-прежнему сердито отскакивал от моей
руки. Надежд приблизить его к себе уже не было.
Выпал снег. Поветь захолодела. Котят чаще одолевал голод. В дом,
как ни манили мы, они не шли. Завидев меня на повети, подбегали, садились в
двух шагах, смешно открывая рты, тоненько требовательно мяукали. Я вставал к
ним спиной, показывая полное свое равнодушие к их нуждам, раскладывал я по верстачку,
на виду у них, кусочки размоченного в молоке хлеба.
Тигрик подходил первым, лапой трогал меня за штанину, стараясь
обратить внимание на себя. Нарочито решительно я протягивал руку, он
отскакивал. Я отворачивался, и снова равнодушно стоял у верстачка.
Их голод, мое терпение, наконец, победили: Тигрик в злом отчаянье запрыгнул на верстак, подлез под мою руку, вцепился в кусок.
Я легонько прижал к себе худое его тельце, он замер, но не
рванулся, как прежде. Тогда я приподнял его к груди, впервые осторожно
погладил.
Он весь прогнулся, стараясь избавиться от чуждого прикосновения,
рванулся и выскользнул из рук на верстак. Убежать ему, я не дал, подсунул к
носу лакомый кусок. Пока он грыз, я все гладил и гладил прогибающуюся его
спину.
Он не выдержал, возмутился моей настойчивостью, с куском в зубах
убегал в угол повети.
Но шаг к сближению был сделан.
Умильную бесхарактерную Лёсичку заманить на верстак оказалось
труднее, чем Тигрика. Она долго жеманилась, отходила, подходила, жалобно
пищала, в конце-концов забралась на верстак с дальнего от меня конца. Путь к
кусочкам я загородил рукой, и как она ни сторонилась, ни пищала, ни переступала
белыми своими лапками, ей пришлось подлезть под мою руку. И когда я умостил ее
на груди и тихонько стал гладить, она выдержала примирение со мной покорнее,
чем Тигрик.
4
Время, время! Не богатств сказочных не хватает человеку, не
хватает человеку времени, и чаще другого на то, чтобы мог он завершить прежде
начатое доброе дело. Сколько человеческих усилий оборотилось во зло из-за того
только, что добрым побуждениям людей не доставало лет, месяцев, каких-то, может
быть дней, или часов, и дело оборачивалось не утверждением, а разрушением!
От детей пришла телеграмма со слезным зовом: наладились по службе
в Африку, в Мозамбик, детишки-внучата опять остаются в сиротстве, требуется
пригляд, здесь сироты, там сироты!
Здесь чужие-несмышленыши, там
человечки-кровиночки. Думай - не думай, а оставлять дом и ехать - надо.
Перед отъездом удалось приманить и схватить Лёсичку. Она почувствовала
над собой не забытое насилие, вся умильность её исчезла вмиг. Лёсичка угрожающе
урчала, шипела, кусалась, отбивалась всеми лапами, обнажив острые, прямо-таки
ястребиные когти. Расцарапанными, окровавленными руками удалось засунуть ее в
корзину. К вечеру поймали и с таким же яростным сопротивлением подсунули к
Лёсичке Тигрика. Корзину плотно укутали дерюжкой, перевязали веревкой
крест-накрест.
На уговаривающий мой голос оба звереныша отвечали злым урчанием:
человек снова стал для них врагом.
Наутро мы нашли корзину перевернутой и пустой, в клочья
разорванная дерюжка висла с краев.
На зов котята не откликались. Мы с женой избегали встречаться
взглядами, молча выставили на поветь все, что можно было съесть, и покинули
дом.
*
*
*

В одном из деревенских подворий жил петух. Красивый.
Золотисто-рыжий. С великолепным хвостом и звонким голосом.
Воспитание он получил на подгородной птицефабрике, хозяину достался
за сумму довольно значительную и потому проникся непреходящим чувством
собственного достоинства. Он так уверовал в свою необыкновенность, что,
оказавшись на ничем не примечательном подворье, среди обычных деревенских кур
затосковал и стал думать, что судьба обошлась с ним несправедливо, и чем больше
размышлял над превратностью судьбы, тем больше раздражался на
бестолково-покорных кур, на всех прочих петухов, сыто горланивших на соседских
дворах, и даже на своего хозяина, не замечавшего его необыкновенность
кормившего его из общей колоды.
По ночам, сидя на насесте рядом с поквохтывающими курами,
довольными своими серыми одеждами и нудной своей жизнью, он прикрывал розовыми
веками круглые глаза и мечтал о другом, достойном его ума и красоты окружении.
Еще по весне заприметил он на пятом вдоль улицы подворье выводок
ослепительно-белых, с модными желтыми лапками и как будто подзавитыми хвостами,
по всему видать, нездешних кур. Белые красавицы кокетливо потряхивали короткими
красными гребешками и с какой-то умопомрачительной для нашего Петуха
завлекательностью прогуливались вдоль забора из ярко синего штакетника. Опекал
великолепных модниц рябой, длинноногий, с глуховатым, каким-то уговаривающим
голосом петушок, настолько невзрачный, что смешно было видеть этого петушка в
роли обходительного кавалера.
Наш красавец-Петух почти физически страдал, когда рябенький
голенастик открыто проявлял свои симпатии то к одной, то к другой пышноперой
беляночке. Однажды попробовал он обратить внимание белых красавиц на себя,
зазывно, звонко, раскатисто прокукарекал, но красавицы лишь на миг вскинули
головы, взглянула издали, о чем-то равнодушно между собой поговорили.
Короткая ночь. Петух мучительно обдумывал, как по праву красоты и
силы завладеть обольстительницами и богатым соседским подворьем.
В один из дней, он не выдержал, с решительностью, на какую только
был способен, направился к синему забору, но рябой голенастый петушок, завидя
его вблизи своего двора, так угрожающе захрипел, вытянул шею, взъерошил перья,
так боевито защелкал раскрытым клювом, что герой наш предпочел поберечь свой
золотой наряд, заодно и себя. К тому же подметил он, как из всех ближних
подворий высунулись настороженные петухи и куры, с любопытством наблюдая, чем
закончится визит местного красавца к чужеземным красоткам. Уловил он зорким
глазом и нескрываемое общее осуждение своему дерзновенному поступку, сделал
вид, что уважает чужую собственность, что белые куры ему не нужны и
успокоительно поквохтывая, бочком, бочком удалился восвояси.
На какое-то время Петух смирился с унылостью своего бытия.
Довольствовался серыми дурнушками, исправно исполнял свои обязанности по
подворью, наблюдая, чтобы куры не отлынивали от своего предназначения и, как
положено, несли хозяину яйца.
Но Петух наш, как все цивилизованные петухи, хотел всегда больше,
чем имел. По ночам он с грустью закатывал под розовые веки золотистое глаза и
снова, и снова предавался мечтам о счастливых переменах в своей жизни.
По утрам, выходя во двор, Петух обычно взглядывал на сверкающий под
солнцем изгиб реки под горой, на широкие луговые дали, убеждался, что там, за
рекой, ничего не изменилось, самоутверждающе подавал свой звонкий голос и
приступал к поиску корма для себя и серых своих дурнушек.
Но, опять-таки, однажды случилось нечто, что нарушило всю
установившуюся было обыденность жизни нашего Петуха.
Выйдя поутру во двор и взглянув с горы на желто-зеленые от хлебов и трав, заречные дали, он замер в изумлении, в небе парил Орел! Раскинув широкие крылья, он плавно кружил в бездонно-синем просторе, медлительно поворачивая золотисто отсвечивающую от солнца голову с крючковатым клювом, с царственной холодностью и зоркостью оглядывая свои неоглядные с земли владенья.
Петух замер, поджав лапу к груди, долго, не мигая, смотрел на
царственно парящего над землей Орла, и что-то самолюбиво шевельнулось в его
завистливом сердце.
- Разве хуже я этого
Орла?! - подумал он, чувствуя, как захватывает его тело дрожь возбуждения. - У
меня такая же золотистая голова, и даже грудь. Такие же большие крылья! Он там,
в высоте летает без забот. А я тут роюсь в прошлогодних листьях, выискивая корм
для вечно голодных дур.
- Нет, достоин я большего!
- сказал сам себе Петух.
Всего ночь он думал о вольной жизни Орла и к утру твердо решил
расстаться с жалким деревенским подворьем!..
В расчетный час не подал, как обычно, голос, не стал сзывать кур к
колоде с размоченными хлебными корками. Он собирал силы, мысленно настраивал
себя на решительный шаг.
Оставив кур у колоды, он вышел на высокий берег реки.
Дерзновенно оглядел заречные дали, зовущую синеву небес. Увидев
парящего под белым облаком Орла, приоткрыл в презрительной усмешке клюв, отошел
к краю улицы, звонко во всю мощь голоса победно прокричал и побежал, изо всех
сил работая ногами. Вытянув шею, распушив перья, отчаянно взмахивая готовыми к
полету крыльями, он ринулся с горы в заречный простор.
Из реки выловил его Хозяин, понес к дому. Вымокший Петух выглядел
еще более жалким, чем мокрая курица. Соседи дивились, спрашивали. Хозяин качал
головой, отвечал:
- Сдурел, видать, мой
Петух. Летать задумал!
Весь день Петух, молча и скорбно обсыхал на крылечке. Когда же
обсох и пошел, как всегда, по подворью, удивился случившейся перемене. Всегда
покорные суетно-заискивающие перед ним куры стали не то чтобы равнодушными к
его присутствию, они как бы вовсе перестали замечать его. Задумавшись такому к
себе отношению, Петух решил пристрожить дурнушек державным криком. Закинул к
спине голову, напряг грудь, но вместо всегда звонкого, раскатистого на всю
деревню пенья вырвался из раскрытого его клюва какой-то булькающий, едва
слышный хрип, - простуженное горло задавило песню, зазвеневшую было в нем.
Несколько обескураженный Петух заквохтал, сделал быстрый круг по двору, игриво приподняв крыло, устремился к своим подружкам, старательно щиплющим у колодца мелкую гусиную травку. Но всегда безотказные подружки, испуганно возопив, бросились от него, как от коршуна, врассыпную. Когда же он проявил настойчивость, догнал одну из дурнушек и попытался прижать к земле, глупая кура, отчаянно хлопая крыльями, взлетела даже на забор!
Что-то непонятное творилось в подворье, он, как будто стал чужим
для верных своих жен!
В недоумении бродил он по двору и остановился перед большим
стеклом. Стекло приставлено было к почерневшим от времени доскам забора, и
отражалась в нем зелень черемухи, перевернутое белое ведро - на колодезном
срубе, песчаная дорожка, притоптанная к колодцу - среди травы. В любопытстве
Петух подошел и увидел близко в стекле себя, всего, целиком, с гребня до
коготков па лапках.
Всю жизнь он судил о себе по восторженным разговорам о петушином
его великолепии, которые вели соседи с хозяином, и по тому, как заглядывались
на него свои и соседские куры. Он знал о своем золотисто-черном оперенье, что у
него ярко-красный гребень, высокий пышный хвост, волнующийся при каждом его
движении, блестящие желтые лапы и круглые золотистые глаза с розовыми веками.
Он сознавал себя красавцем, от красоты шла и его сила, и гордость, и
неотразимость его желаний.
И вот он сам, узрел себя и захрипел от отчаянья. Все великолепие
его наряда исчезло: грудь свалившимися в комки перьями напоминала исковерканный
медный поднос; хвост свисал, как голые березовые ветви, гребень пожелтел, был
тускл, как затуманенный облаком месяц, всегда яркие серьги под клювом напоминали
сморщенные лиловые бобы. Петух понял, что красота и власть потеряны для него
навсегда.
В ночи, нахохлившись на насесте, он уже не мечтал о вольном
поднебесье, уставив круглый глаз в темноту душного вздыхающего, хрюкающего
двора, он мрачно размышлял об унылом своем будущем.
В самое это время прошел по деревне громкий слух, что жизнь на
всей земле круто меняется, общие интересы отменяются, теперь у каждого забота
только о себе, и каждый может захватить власти
сколько может захватить.
Петух был петухом сообразительным, сразу смекнул, что пришло
спасительное время для всех обиженных, стесненных, недооцененных, разумеется,
и для него!
В одну из ночей обдумав план решительных действий, он согнал
с насеста всех кур, давая понять, что отныне власть во всем подворье переходит
к нему. Раскудахтавшиеся хохлатки обиженно расселись по поленицам и поросячьим
загородам, а Петух, удовлетворенный первым шагом, сидя в одиночестве, на высоком насесте, нетерпеливо ждал рассвета, чтобы сделать
следующий, такой же решительный шаг.
Когда утром Хозяин насыпал в колоду зерно и размоченные хлебные корки, и куры,
как всегда, сбежались насытить ненасытные,
свои желудки, Петух зацепил своей сильной лапой край колоды и, натужась,
опрокинул ее так, что весь корм оказался под колодой. Хохлатки суматошно
бегали, стучали клювами по деревянному
донышку колоды, кокотали в недоумении, но поделать ничего не могли.
Повозмущавшись, так, с голодной икотой, и разбрелись по всему подворью.
Задуманное Петух осуществил. Осталось сделать еще один шаг.
Под слежалыми листьями, он разыскал жирного красного червя,
призывно, как в былые времена, кокотнул. Голодные куры бросились
на зов. Серых дурнушек Петух оттеснил, подбросил червя рыжей хохлатке,
особо влекущей его. Когда рыжая жадно сглотнула червя, он отбросил
все прежние сантименты, не стал подчинительно приподнимать крыло, совершать
любовный полукруг, расшаркиваться лапой со
шпорой. Властно, хищно он вцепился клювом в трясущийся ее гребень,
придавил толстуху к земле, заставил тут же
распластаться за лакомый кусочек.
Собственная красота, звонкость голоса теперь перестала его заботить.
Заботой стала власть и принуждение. Со всеми курами на
подворье, он установил строго бартерные отношения, на взаимной выгоде: ты -
мне, я - тебе. К ночи он первым занимал насест и следил, чтобы не каждая чернушка
или серушка садилась с ним рядом, допускал к себе только
тех хохлаток, которые безропотно покорялись его воле и славили
по соседским дворам его силу и мудрость.
На своем подворье, он установил нужный ему порядок. Но зуд
удачно для него начавшихся реформ влек его мысли к более масштабным
деяниям. Всему живому всегда хочется больше того, что он имеет.
Не забыл он о
белых чужеземных красавицах, разгуливающих на дальнем дворе у голубого забора. И теперь уже в гордой уверенности вышел за пределы своего подворья,
памятуя, что теперь в изменившейся
жизни, свой интерес можно утверждать любыми средствами: и силой, и обманом, и коварством.
Прежде другого он подумал о
бартерной сделке: задобрить памятного ему Голенастого Петуха своей
рыжей хохлушкой и взамен получить любовь белой
красавицы!? Но, поразмыслив, бартерную сделку он отверг. Голенастый был
из местных, коренных, крепко сидела в нем
прежняя деревенская мораль. Слыл он явно консерватором, и всякий бартер или подкуп, конечно же, отвергнет из-за
старомодной своей дурости.
Петух наш искал другой путь. И после многих изощренных продумываний остановился на самом, как казалось ему, гениальном.
Каждое утро проносился по
деревенской улице, завывая мотором и нещадно пыля, бойлер-молоковоз. Всегда в один и тот
же час всегда лихо, на бешеной скорости, и
вся живность, спасая себя,
разлеталась и разбегалась с дороги. На
этой-то машине и замкнулась коварная мысль Петуха.
Утром, когда машина еще
стояла у фермы, Петух появился у чужого подворья, хриплым
криком оповестил о своем присутствии, Голенастый вышел из двора, поглядел
презрительно, снова ушел к своим послушницам. Петух подошел ближе, встал так,
чтобы белоперые красавицы его видели. Он хрипел, сипел,
оскорблял Голенастого, царапал землю лапой так, что трава и листья
летели из-под
хвоста. И Голенастый не выдержал. Взъерошил
перья, вытянул шею, с угрожающе
раскрытым клювом бросился на обидчика.
Петух только того и ждал.
Отступая, он увлек Голенастого на дорогу, здесь и
схватился с ним в поединке. Собрал всю свою силу, повалил Голенастого, вдавил в пыльную колею и так держал, пока в
улицу не въехал молоковоз. Когда
машина понеслась, уже была близко, Петух ловко отскочил с дороги. Голенастый, учуяв опасность, тоже сполошно взмахнул крыльями, но ударило его железом,
отбросило далеко на обочину,
Машина унеслась, окутав
улицу пылью. Когда пыль улеглась, все увидели Голенастого. Лежал он в траве, вытянув
серые лапы, в его раскрытом клюве пузырилась розовая пена.
Пышнобокие белые куры бежали из двора, окружили недвижимого
Голенастого, квохтали, стонали.
Петух наш сделал скорбный вид, подошел, поцокал языком, выражая
сочувствие. Оценивающим взглядом рассмотрел каждую из красавиц, заверил, что
отныне все заботы о жизни их подворья он берет на себя.
Петух почувствовал себя господином всех подворий, важно, в
сопровождении заискивающих юных петушков ходил от двора ко двору, уже без
бартерного обмена, сбирая дань с приглянувшихся ему хохлаток. Но высшей его
усладой были, несомненно, пышно-белые заморские красавицы, опекал которых он с
особым пристрастием с рассвета до сумерети.
Свое неприглядное подворье он забросил, не волновала его теперь
даже Рыжая Хохлатка. Все куры на старом его подворье старательно сидели на
яйцах, но потомства высидеть не могли. По другим дворам уже бегали, суетно
попискивая, черные, рыжие, белые выводки, а родовой двор Петуха на глазах
затихал, вроде бы даже умирал.
Молва прошла по деревне, что Петух-то, оказывается, никчемный свое подворье обиходить не может. Хозяин наконец-то, и сам неладное приметил, сказал в озабоченности:
- Да, на кой мне этот
беспутник!
Вечером он снял Петуха с насеста, умостил под мышкой, вынес во
двор. Петух пробовал протестовать, недовольно квохтал, но молчаливый хозяин
только крепче прижал его к себе. Другой рукой он взял топор, - пошел к
поленице, где стоял широкий кряж, на котором рубил он хворост.
Так закончилась предпринимательская деятельность Петуха, жившего в
деревне, на берегу, среди лесов, лугов и полей необъятной нашей России!
*
*
*


До ясной ясности вспомнил Алексей Иванович
одно из не первых в своей жизни мгновений, когда какие-то минуты,
секунды отдаляли его от смерти. На фронте, и потом, на
госпитальной койке, такие мгновения опаляли и уходили, не
оставляя сколько-нибудь болезненного следа в душе, уже
привыкшей к опасностям войны.
Но тот случай вспоминал он с холодом в
сердце, может быть, потому, что случилось это много позже войны, в
мирной, радостно ощущаемой им жизни.
В то время жили они с Зойкой романтическими
устремлениями к познанию еще непознанного, радостями
передвижения по неизведанным дорогам, когда ночуешь на Кавказе, обедаешь в Крыму, ужинаешь где-то в степях Украины.
Тогда только-только выделили ему через собес
удобный "Москвичок"
с управлением, переделанным для рук, и тут же явившаяся
возможность преодоления тысячекилометровых пространств в первый же летний отпуск двинула в неизведанные дали.
В один из дней жаркого сухого июля, после
утолительной пыльной степной дороги, где-то за Каховкой и Херсоном, и дальше,
за устьем Днепра, в самой южной точке у неизвестного им Скадовска,
оказались они на безлюдном берегу открытого их взору
Черного моря. Радость наконец-то достигнутого края была столь
велика, что не показалась им странной пустота остро вдающегося
в простор моря мыса, где остановились они в иссушающей духоте полдня!..
Слева, где далеко тянулся пологий песочный
берег, полоса прибрежной мелкой воды сплошь была забита орущей,
визжащей в азарте купания, ребятней.
Столь же многолюдно было и справа, по изгибу каменистого берега, где стояли машины, где купался, загорал
приезжий, отдыхающий в этих благодатных местах, люд. Здесь же, на вдающемся в море мысу было совершенно безлюдно, и это
укрытое от глаз местечко они приняли
как дар за долгий утомительный путь.
Алексей Иванович подогнал машину почти к
самой воде, к краю уютной лагуны, охваченной нагромождениями полуразрушенных
скал, и Зойка, его не дожидаясь, стащив с себя запыленное платье,
с всегдашней своей решительностью бросилась, вздымая брызги, в прохладу
зеркально неподвижной, черной здесь от отражения скал воды.
Лагуна оказалась неглубокой: упавшие со скал
валуны выставляли свои каменные затылки почти на самой ее
середине, и Алексей
Иванович, обычно встревоживаясь бездумной отвагой Зойки, успокоился, видимо, безопасностью лагуны. Постелив под себя брезент, поглядывая на возбужденно
барахтающуюся в воде жену, он неторопливо раздевался, отстегивал
протезы, давал остыть жаркому телу, прежде
чем занырнуть в ласкающую упругость воды.
Пока он раздевался, Зойка уже выбрела на
песок, отжимая волосы, блестя мокрым загорелым телом, тут же заторопилась к привычной
заботе: стала собирать на берегу выкинутые морем деревяшки,
ломать в кустарниках сухие ветки, чтобы разжечь костер и
приготовить чай.
Алексей Иванович на руках влез в воду,
прикидывая, что в малом замкнутом пространстве, всего в какую-то полусотню метров,
в радость себе не наплаваешься. Близкий шум открытого моря слышался
в разрыве каменных нагромождений, образующем как бы ворота. Там медлительно, с
гулом прокатывались горбы волн, и острое желание водного простора всегда, с
юности, живущее в нем, уже настроило его
выплыть туда, в простор моря. Моря он не боялся: ни утреннего, спокойного, когда, с берега глядя, хочется
огладить его ладошкой, ни полуденного, когда, раскаченное ветром, оно темнеет, с гулом накатывает валы на
шелестящий прибрежный галечник.
После войны, когда открылись на ногах раны, пришлось ему почти годы жить на побережье Крыма, у хмуро таинственных скал Карадага. Он уплывал на километры
в море, и там, среди волн и неба,
блаженствовал, щурясь и разглядывая, из дали каменных королей, стоящих на
отвесных Карадагских утесах. Были это
счастливые часы возвращения к радостям юности. И до сих пор жило в нем доверие к морскому
пространству, вера в свою силу, в бесстрашное умение пловца.
И теперь, привычным движением занырнув в воду, проплыв вкруговую по лагуне, он направился туда, в каменные ворота.
Плыл, не торопясь, к пролому в скалах,
предвкушая простор открытого моря, наплывающие из-за горизонта
мерные накаты волн, когда в плеск воды у плеч и подбородка, в шум
идущий к нему навстречу от моря, ворвался тонкий, как комариный
писк, oотчаянный
Зойкин голос:
"Але-еша! Не
смей! Назад!.."
В это же мгновение, когда слух его уловил
Зойкин отчаянный
вопль, он почувствовал внезапный страх, как будто ударило его ветром опасности из пролома, где в снеговом
кипении пены, разбивались волны о
скалы. Развитое с дней фронта ощущение близкой
опасности в последний миг остановило его.
Чувствуя, что уже помимо воли, чуждая
властная сила тянет его в пролом, он всей мощью рук бросил свое
тело назад, вырвался в неподвижные воды лагуны. К нему изо всех
своих сил неслась, расплескивая воду, Зойка.
- Там
смерть! - отчаянно кричала она, падая, поднимаясь, торопясь к нему. Он видел
её лицо, залепленное мокрыми волосами,
раскрытый рот, ужасом распахнутые глаза.
- Там
смерть! - кричала, захлебываясь, Зойка - Не смей туда! Не смей!..
Он подплыл к ней. Она вцепилась в его руку, с
какой-то исступленностью,
не отпуская руки, тащила и тащила его к берегу, как будто оглохнув, как будто не слыша протестующих его слов. И только когда увидела его, распластанного на
тверди земли отпустила руку и тут же
рухнула с ним рядом, содрогаясь в рыданиях.
Алексей Иванович только теперь заметил
стоявшего близко к ним человека в длинной поверх штанов
рубахе, с палкой в руке, в пастушечьей широкополой шляпе.
- В
рубашке родился, милый, - тихо, вроде бы даже без сочувствия сказал человек. -
Женку благодари, что успела, не быть бы тебе в живых.
Алексей Иванович, хмурясь, смотрел на человека. Он не любил, когда кто-то видел его обнаженным, во всей
неприглядности тяжелых ранений. Да
еще рядом рыдающая в неизбытом страхе
Зойка. Сказал сдержанно:
- Спасибо на добром слове.
Как-нибудь разберемся сами.
- Разбирайся,
парень, - ответил человек с той же невозмутимостью. - Только знать надо: ныне в лето уже
шестерых море поглотило. Водоворотная пасть
тут. Нет пловца, чтобы её осилил. - Человек снял шляпу, отряхнул, надел. Не
прощаясь, пошел к овцам, что паслись
невдалеке.
Алексей Иванович дал Зойке время успокоиться,
уговорил вместе добраться по кромке полуразрушенных скал до
пролома. Он не мог так просто уйти от места, пригрозившего ему
смертью.
До скалы, обрывающейся в пролом, он дополз,
вцепливаясь в выступы камней. Лежа смотрел на перекатывающиеся упругие валы, и
отсюда, с высоты, не чувствовал страха перед привычным ему простором моря.
Волны ударялись в противоположный выступ пролома, разбивались, кипели,
пенились, пузырящаяся белая пена стекала по скалам к пролому,
но почему-то не попадала в спокойную воду лагуны, в проломе,
казалось, существовал какой-то не видимый глазу порог. И
странным было то, что пенистое покрывало, рождаемое непрерывными
ударами волн, сдвигаясь к этому не видимому порогу, исчезало в
морской пучине, хотя ветер старался занести его в лагуну.
С тревогой, прихватывающей дыхание, пытался
разгадать Алексей Иванович зримую им загадку.
Внизу, среди осыпи валунов, еще прежде он
заметил высохший, заброшенный какими-то бурями пень с раскинутыми, как щупальца
осьминога, корнями. Умолил Зойку, не отпускавшую его от себя ни на
шаг, столкнуть этот пень в пролом, и когда Зойка, тужась,
все-таки столкнула неуклюжий пень в лагуну, у самого пролома, Алексей Иванович
впился в него глазами, как будто этот высохший за долгое свое
лежание в камнях обрубок дерева был знаком его судьбы. Пенек успокоительно
покачивался в неподвижной воде, хотя был у самого выхода из лагуны. И Алексей Иванович,
в желании уяснить все до конца, подтолкнул пенек палкой
за безобидный, как казалось ему, порог. И тут же сжалось сердце,
потемнело в глазах: едва пенек в медлительном своем положении
пересек некую таинственную черту, пучина, как огромная разверзшаяся
пасть, в мгновение поглотила его. Мелькнул лишь светлый, как пятно
лица, верхний срез пенька, и все пропало в глубинах кипящего волнами
моря.
Алексей Иванович посмотрел в широко раскрытые
глаза Зойки, молча прижался губами к её дрожащей руке.
*
*
*

- Алексей, друг ты мой любезный, как бы ты отнесся к
человеку, который предложил вернуть тебя в молодость?
Алексей Иванович,
придерживая слабыми старческими руками чашку с горячим чаем у губ, удивленно
приподнял седые клочки бровей…
- Ты что, разыскал Мефистофеля? Хочешь продать мою
душу? - он смотрел сквозь очки на Кима с добродушной
смешинкой в глазах, догадываясь, что и ему, деятельному умом другу, не чужды
желания молодости, что и он был бы не прочь повторить судьбу бессмертного
Фауста.
Но Ким не принял иронии
Алексея Ивановича, склонил голову, сцепил, сжал пальцы рук. Он как будто не мог
высказать Алексею Ивановичу нечто важное, ради чего позвал его приехать
издалека на эту встречу.
- Ну, что ты, Ким! - подбодрил его Алексей Иванович. - Как
будто в любви собираешься признаться, а годочки-то на плечах, все восемь
десятков. Давят!
- Ладно, Алексей. Давай к делу. - В
напряженном голосе Кима услышалось нечто такое, что насторожило Алексей
Ивановича; он осторожно поставил чашку на низенький столик, за которым они
сидели, выжидающе посмотрел на Кима.
- Постарайся, Алешенька, серьезно вникнуть в то, о чем я сейчас скажу. - Сплетенные пальцы рук Кима побелели от напряжения, он прижал их к остро торчащему колену.
- Мефистофель - великое создание мечтательных умов.
А мечты – это не абсолютно доказанное историей, - не что иное, как
предвосхищение будущего. Алешка! Мы вплотную подошли к возможности раскрутить
спираль ДНК в обратную сторону! Не понял?.. Нащупана возможность сбрасывать
прожитые годы!..
Стареет организм. Но
мозг, мозг! - вместилище жизненного опыта, вместилище медленно
накапливаемой мудрости, только к тому времени обретает зрелую деятельную силу.
Мозг готов питать Разум в обретенной за жизнь мудрости. А организм во всей его
физиологической совокупности, ослабев за какие-то семь десятков лет,
разлаживается, как изношенная машина, и отказывается питать накопленную
мощность мозга! Рецепторы стареющих клеток дают уже неточную информацию мозгу.
Сбои отражаются на его работе. Зрелый деятельный мозг и затухающие импульсы
постаревших клеток организма не дают возможности проследить деятельность мозга
в дальнейшем его развитии, увидеть возможный потенциал и обратное воздействие
энергии мозга на деятельность организма. Потому нам важно соединить восьмидесятилетний
развитый мозг с молодым сорокалетним организмом.
Ким ждал вспышки эмоций.
Алексей Иванович молчал, потом он вздохнул: ее одна сенсация! Сколько их
провозглашено! И выделен вирус рака, и найдено лекарство против СПИДа, и то, и
другое, и третье, а рак по-прежнему уносит человеческие жизни, и СПИД, как чума
в былые времена, по-прежнему выкашивает людей!..
Ким заметил ироничный
взгляд Алексея Ивановича, с какой-то даже горечью усмехнулся.
- Всегда вспыхивал от новых идей, а тут… - он
досадливо махнул рукой. Но что-то не позволяло ему отступить от затеянного
разговора, т хмурясь, он продолжал вести Алексея Ивановича к какой-то важной
для него мысли.
- Скажи-ка, Алексей, вот сейчас в своем солидном
возрасте, ты обижаешься на свой мозг?..
- Обижаться? На мозг, с какой стати!.. -
удивился Алексей Иванович…
- Ну, плохо мыслит, память теряется?..
- Нет, Ким, пока не в обиде. Мыслит ясно. Углубляется в такие проблемы, о которых прежде не помышлял. Мир охватывает от черных дыр Вселенной до бабочки на цветке. От президентских выкрутас до бомжа, выбирающего из больничной помойки огрызок булки. Стал он вместилищем всех бед человечества, и Разум, им порожденный, с еще большим упорством ищет пути одоления земных бед. Нет, мозг не слабеет, мудрости набрался, по ночам не дает спать, прокручивает вопросы, старается отыскать ответы. А почему заинтересовал тебя мой мозг?..
- Погоди, отвечу. А пока скажи о телесной твоей силе.
Сохранил ли ту силу, которой всех восхищал прежде?...
- Смешные вопросы задаешь! Хочешь, чтобы в восемьдесят
лет я был также стремителен и силен, как в сорок?! В жизни такого не бывает.
Лицо Кима с недавно
отпущенной узкой интеллигентской бородкой, с короткими седыми усами по крупным
с горбинкой носом, оживилось… Улыбка удовлетворения тронула его губы.
- Это и есть трагический парадокс жизни! -
воскликнул он. - Мозг только-только обретает
деятельную силу, а телесный организм всей своей физиологической совокупностью
питающий мозг – вместилище разума – уже не способен быть.
И вся накопленная
мощность разума, готовая действовать еще сотню лет, в какой-то из дней
зарывается с обессиленным телом в землю… Невероятно! Природа так бережлива на
энергетические траты, а тут бессмысленно уничтожается накопленная за жизнь
бесценная энергия разума!
Так вот. Теперь ты
подготовлен выслушать меня без обычной иронии и всерьез призадуматься о своем
будущем. В уже нескрываемом волнении Ким поднялся, походил в молчании по
комнате, снова сел напротив Алексея Ивановича, положил руку на бесчувственное
его колено.
- Алеша, - сказал мягко, голос его прозвучал с
трогательной проникновенностью. - Дорогой мой, если бы согласился на
уникальнейший эксперимент, способный продвинуть человечество на качественно
новый виток в тысячелетнем его развитии… Если бы ты согласился! Алешка! Действительно
найдена возможность раскрутить спираль ДНК, в которой запрограммировано
развитие организма от его рождения до смерти, в обратную сторону. Найден способ
вернуть живой организм - в данном случае нас интересует
человек - в его прошлое на десять, двадцать, сорок лет назад!
Не только вернуть, но и восстановить все биологические функции, присущие
молодому возрасту. И что самое главное - с сохранением умственных накоплений
мозга.
Ким с новой своей острой
бородкой, узким лицом и крупным горбатым носом очень, очень похож был на
Мефистофеля, и Алексей Иванович не удержался, добродушно рассмеялся.
- Все-таки хочешь купить мою душу, - сказал он, все еще
не веря в серьезность затеянного разговора.
- Ну, предположим, я согласен на эксперимент. Что я
должен делать? Затаите меня на операционный стол, взрежете внутренности,
раскрутите старческие мои спирали? И я, помолодев на полсотни лет, снова побегу
по жизни? И, может быть, даже на своих ногах?
Ким досадливо поморщился
от его шутливого тона. Строгая озабоченность не сходила с его лица.
- Нет, Алешенька, - сказал он серьезно, ноги мы тебе не
вернем. Это проблема следующего тысячелетия. А вот несколько десятков годочков
сбросим. И почувствуешь ты себя снова сорокалетним в поре своей энергичной
зрелости. И мудрый твой мозг получит возможность накапливать мощь своего разума
еще не один десяток лет. И для этого не надо ложиться на операционный стол, не
надо резать твои внутренности. Недели две-три будем облучать тебя лазерными
импульсами с добавочными вливаниями в кровь, и твоя генная спираль начнет
медленное обратное вращение. Процесс не из легких. Но пара орангутангов, на
которых проведены потрясающе удачные опыты, выдержали.
Алексей Иванович
почувствовал, как напряглось все его тело, взгляд остановился на Киме.
- Так все это серьезно? - проговорил он; голос его пресекся от
прихлынувшего волнения…
- Очень даже серьезно, Алексей!
- Но почему ты предлагаешь это мне?!
- По очень веским причинам, Алексей, по очень веским.
Цель эксперимента – мозг, возможности накопления энергетической мощности разума
при омоложенном человеческом организме. Твой мозг в определенном смысле
уникален. Всю жизнь он у тебя в непрерывной сотворяющей работе, задействованы
все мыслительные его возможности, накоплены познания, осмыслен опыт долгой
жизни. Где мы найдем другого такого человека?
… И потом твое мужество,
то, что пережил ты, твоя стойкость к страданиям, доставшимся на твою жизнь…
Процесс обратной перестройки организма очень и очень болезненный, даже
мучительный. Не каждый способен выдержать. Не скрою, может быть и трагический
исход, Алешенька. Риск – пятьдесят на пятьдесят, об этом тоже должен
предупредить тебя…
Потому только предлагаю,
не настаиваю. Решай сам. Обдумай все. Ким говорил страдальчески, как будто уже
видел и сопереживал предстоящим мучениям Алексея Ивановича.
Алексей Иванович потянулся к чашке с уже остывшим чаем, поднес к губам, сделал глоток, другой, руки его от нервного напряжения подрагивали. Сидел он молча, отяжелев думой медленно потирал пальцами лоб, как обычно делал в затруднительных случаях…
Ким осторожно поднялся,
взял чайник, понес на кухню разогревать. Через какое-то время вернулся,
предупредительно налил свежего чаю в кружку Алексея Ивановича, сказал, будто
оправдывался:
- Я мог бы сам пойти на этот эксперимент, но кто тогда
закончит исследования по мозгу? Четверть века потрачено. А истина едва
проглянула. И пока, к сожалению, ухватил ее только мой глаз.
Алексей Иванович
чувствовал, что Ким винится перед ним и улавливал в его повинных словах
тревожное опасение за возможный трагический исход предложенного ему
эксперимента. Сама возможность трагического исхода мало волновала Алексея
Ивановича, он в общем-то спокойно относился к неизбежному концу своей жизни.
Каждый миг войны вполне мог оборвать его жизнь, в двадцать лет на госпитальной
койке, он по сути уже перешагивал за черту жизни. Лишь сила молодого организма,
его упорство и желание жить растянули его годы жизни еще на много деятельных
десятилетий.
Мудрость прожитых лет он
уже вложил в свои книги. Они останутся для тех, кто неравнодушен к опыту жизни
другого человека. Тем, для кого мудрость не забава, а энергия собственного
человеческого возвышения. Уход из жизни давно продуман. Каждому оставшемуся дню
найдено место в памятливых клеточках мозга, все подготовлено к тому, чтобы
спокойно расстаться с нажитым и прожитым. Напрасно Ким винится, тревожится за
него. Свои дела он должен закончить. И результат, который может быть получен от
этого эксперимента с его – Алексея Ивановича – жизнью, вполне может оправдать
все неистовые стремления его научных изысканий.
Как когда-то в далекой
молодости, он готов отдаться в волшебные руки Кима. И не ради обещанной ему
призрачной молодости. Киму нужна его жизнь, Ким ее получит. Одно, только одно
удерживает его от почти готового согласия: он не один, он не сам по себе. Рядом
с ним Зойченька – с жизнью, неотделимо с его жизнью. Вправе ли он распорядиться
собой, если их жизни неразделимы?
Алексей Иванович так
сразу, сейчас, не сможет ответить Киму. Наблюдая, как старается, как хочет
смягчить свою вину за жестокость предложенного жертвенного эксперимента и желая
как-то успокоить ни в чем не повинного друга, он сдержанно улыбнулся и сказал,
как будто речь шла о каком-то будничном поступке, а не собственной его жизни.
- Постараюсь помочь тебе, Ким. Только сам понимаешь:
рядом со мной есть еще один родной мне человек. Я должен подумать о его судьбе.
Ким понимающе склонил
голову.
Недели через две Алексей
Иванович вернулся в Москву. В квартиру Кима вошел он не один, рядом с ним была
его Зойченька, Зоя Гавриловна, низенькая, пополневшая, но с блеском черных, как
речные камушки-окатыши, глаз.
На радостный и несколько
смущенный возглас Кима, встретившего их, Алексей Иванович сказал с твердостью,
не допускающей возражений:
- Вот, Ким, на твое предложение мы согласны. Но
эксперимент делать будете сразу на нас двоих. Другого варианта не будет…
2002 год
*
*
*

Через много лет, после смерти отца,
примирившись уже с его отсутствием в жизни, Алексей Иванович,
живущий в постоянной занятости, в раздумьях, в работе, сидя
поздним вечером за столом уже в умственной и физической усталости, потянулся к папке, лежащей на нижней полке, аккуратно и
крепко перевязанной еще рукой отца.
Движением ладони сдвинул пыль с обтрепанных темно-коричневых корочек, с тесненной, когда-то золотой, теперь едва желтеющей буквами надписи «Дипломная
работа», стал развязывать и снимать
витые из оберточной бумаги веревочки. Пальцы
почему-то дрожали, сердце учащенно билось от пробивающейся из сознания вдруг ожившей вины.
Папка была с бумагами отца, перешла к нему
после его смерти вместе с тремя книгами, которые до конца жизни
держал он на опустевшей полке над своей кроватью. Папка, однотомник К. Паустовского, «Мертвые
души» Гоголя еще довоенного издания, и
работа Сталина "Диалектический материализм", с которой что-то связано было в его жизни, составляло все
отцовское наследство, которое
передано было ему женщиной, ухаживающей за отцом, последние пять лет. Прежде
порядочно было у него книг и кое-какие личные и семейные вещи. Но в
последние годы, когда ясно сознал он
неизбежный конец своей жизни, он отдал книги в ближайшую библиотеку,
оставив себе только вот эти три, а еще одну
- роман, написанный им, его сыном, который под соответствующее настроение перечитывал, сняв очки, близко
приблизив к лицу страницы. Порой
опускал книгу на колени, закрывал пальцами лицо, уходил в долгие раздумья.
Как ни готовил он себя к уходу, ощущение
жизни, и прошлой
и настоящей, жило в его ясной памяти, в его чувствах, и как бы ни раздражала его порой людская суетность,
попадавшая в круг его житейского
внимания, как бы ни сдавливали его порой обиды, невнимание незнакомых, а то и тех уже немногих, окружающих его людей, как ни тоскливо было вникать в угнетающее
движение своей, он знал, неизлечимой
болезни, все равно хотелось ему, как можно
дольше видеть по утрам отблеск солнца в комнате, слушать все усиливающийся гул улицы за домами, греть руки
о стакан, отхлебывая горячий крепкий
чай вприкуску с наколотым прессованным
сахаром или вязким черносмородиновым вареньем, варить которое женщина,
ухаживающая за ним, была большой мастерицей.
При нечастых встречах с отцом Алексей
Иванович улавливал его тоску от сознаваемого им
приближающегося небытия. Но как обычно бывает у постели больного,
бодрился, делал вид, что не замечает ни исхудавшего его лица, ни
проступившей костистости рук, лежащих поверх одеяла, ни как будто застылого
взгляда близоруких глаз, и теперь не потерявших былой голубизны.
Да и сам отец не заговаривал о своей болезни, собирал на
короткое время остаток сил, оживлялся, даже пробуждал в себе интерес к его,
Алексея Ивановича делам.
Алексей Иванович понимая, что его мирские
дела вряд ли теперь важны для отца, как это бывало прежде,
рассказывал, хотя без обычной увлеченности, и умолкал, уловив
усталую отстраненность в полу прикрытых отцовских глазах. Оба
какое-то время пребывали в молчании: отец - в своем
сумеречном остановившемся мире, он - в мыслях о многих делах ждущих его,
нужных, необходимых, не могущих, как казалось ему, разрешиться без его вмешательства.
В нарастающем нетерпении, с вздохом он
произносил:
- Пап, ну я пойду! - и, поймав повинным
взглядом, медленный разрешающий наклон его головы, уходил с чувствуемым облегчением.
Он и сейчас помнил это постыдное чувство облегчения, казалось
бы, естественного, когда полная энергия жизнь человека соприкасается
с ослабевшей, беспомощной, уходящей в небытие другой человеческой жизнью...
И только теперь начал сознавать, что жизнь
уходящего в небытие отца, была и его жизнью. Он не появился бы на
земле, если бы не отец. Наверное, не стал бы тем, чем стал в своем
больше чем полувековом бытие. Вряд ли утвердился бы в жизни без
трудов, забот отца, которые питали его в детстве, в юности,
вряд ли дожил бы до нынешних своих лет, если бы не отец,
примчавшийся к нему за тысячу верст, когда от тяжких фронтовых ран он
сам уже переходил за черту жизни.
Алексей Иванович почувствовал, как запылало лицо в запоздалом раскаянье за былую свою отстраненность от отцовских страданий.
"Вот так, потянешь ниточку из прошлого,
- думал Алексей Иванович. И тяжко придавит оно твое настоящее".
Осторожно, с чувствуемым замиранием сердца,
раскрыл он папку. Сверху лежала обычная толстая общая тетрадь. На серенькой
обложке посередине четким крупным почерком отца обозначено:
"Думы". "Думы" подчеркнуто, отец, видимо, придавал этому слову
особый, значимый смысл.
С той же осторожностью открыл первую
страницу, первая запись - четыре строки из Беранже:
"Если б только земли
нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир
осветила
Мысль безумца
какого-нибудь".
Алексей Иванович еще, еще раз перечитал строки, которых не знал. Поразился сравнению: мысль - подобна
солнцу, она, мысль способна осветить
мир! Отец всегда ценил мысль, прозревающую смысл всего сущего. Видимо по душе
было ему возвеличивание её.
Страницу за страницей перевертывал Алексей
Иванович, вчитывался в записи отца и все отчетливее начинал понимать, что отец
и в старческой своей не успокоенности продолжал искать ответы
на вечные вопросы бытия. Избрал он свой, оригинальный путь
раздумий: выписывал мысли людей разных эпох, высказанные
ими при жизни, и расставлял некими мерцающими огоньками, по
долгой, неясно проглядываемой истории человечества. Были это
отдельные, разные мысли, чем-то созвучные собственным его раздумьем.
Но за ними все с большей определенностью, как все учащающийся
стук встревоженного сердца, ощущалось не спадающее беспокойство за
человека и его будущее.
Алексей Иванович дочитал до последней
страницы и вдруг притаил дыхание, увидев на внутренней стороне серой тетрадной
обложки четкую завершающую запись: "Сыну. Для раздумий".
"Вот оно что!" - подумал Алексей
Иванович, в каком-то даже смятении. - Отец не просто искал, выписывал мысли
умов великих. Выписывал, думая о нем, своем сыне, надеясь, что
и своими раздумьями он сможет помочь ответить на вопросы, которые мыслящие
особи человечества ставили перед собой и будущими потомками, не всегда с
определенностью на них отвечая!..
Какое-то время Алексей Иванович сидел в неподвижности,
утишая смятение ума. Потом бережно, будто нащупывая смысловую нить, снова открыл
первую страницу, медленно перечитал строки
из Беранже, так же медленно, вдумываясь, начал перечитывать запаси.
"Разве знакомое, привычное способно
зажечь огонь в сердце ищущего? Ведь там, где все определено, все известно - там
нечего искать... Обычное - враг научного прогресса. В физике
давно уже пользуются тремя формами истинности: правда, ложь, неопределённость".
Рукой отца помечено: мысль В. Келлера.
"Вдохновляющий старт к раздумьям, -
подумал Алексей Иванович. Из обыденности к озарившим ум
открытиям при трех формах истинности: правда, ложь, неопределенность! И все три
категории истинности, как бы в одном узле!"
Вот отец выписывает подряд, всегда
занимавшие его мысли о человеке: "И.П.Павлов: "Человек - высший
продукт земной природы. Человек - сложнейшая и тончайшая
система. Но чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным, умным".
"Должен! Но всегда ли он таков? И каждый
ли способен направить усилия разума на совершенствование себя?..",
- думал Алексей Иванович.
Вот совершенно другое понимание того же
человека:
"Человек в таком виде, в каком он
появился на земле, существо ненормальное, больное...". Это утверждает Мечников, великий физиолог!
Еще более резок Лафарг:
"Человек - самое жесткое и лицемерное
существо из всех животных".
Вторит ему из нашего времени академик Н.Н.
Моисеев: "Человек отнюдь не идеальное создание по образу
и подобию божьему. В нем много мерзостей. Это и агрессивность, унаследованная от его далеких предков, и трусость, и алчность, и
вероломство, и страсть к
стяжательству, и лживость, и многое-многое другое. Подчас становится страшно, когда осознаешь, что
именно для существ, обремененными этими пороками, мы строим социализм..."
И тут же все озаряющая иным светом, мысль
Сократа: "Есть много огромного в мире, но огромнее всего
человек". - Алексей Иванович в изумлении замер над листком
тетради: как две тысячи лет тому назад этот мудрец сумел предсказать
беспредельность духовного мира человека?!
"Так, где же истина? - думал Алексей
Иванович, - и почему отец собрал вместе эти взаимоисключающие утверждения? Увидел в каждом частицу истины? И не нашел возможным
склониться ни к одному из них? Может, все-таки, ближе к истине прозорливый Лев Толстой, чью мысль тут же, следом,
записывает отец: "Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке
в том, что мы называем, определяем
человека умным, глупым, добрым,
злым, сильным, слабым, а человек есть всё: все возможности, есть текущее вещество..."
Послушная намять вернула Алексея Ивановича к
одному из отцовских откровений. Было это у реки, где сидели они с
удочками, в редкий для отца час отдохновения.
Предзакатная тишина, слабое журчание текучей
воды, бесклёвье - поплавки ни разу даже не качнулись. Отец
перебрался ближе к нему, присел, поеживаясь, потирая плечи, хотя на воле была
теплынь, сказал задумчиво:
- Какое все-таки несовершенное существо -
человек! Ты не задумывался? Посмотри в прошлое: история наша
необъяснима, пестра, как сам человек. Тысячелетиями карабкается
человечество к так называемой цивилизации. А суть усилий во все века одна: человек
предстает существом, что-то добывающим, что-то созидающим, что-то бездумно
разрушающим. То он объединяет себе подобных, то враждует с ними. Рождает идеи,
озаряющие мир, и тут же все испепеляет
оружием, его же умом созданным! Естествоиспытателями человек отнесен к высшему
разряду, из всего живого, обозначен, как Человек Разумный. Но где его разум?
Только лишь в идеях справедливости?
Но всякая идея, тем более идея справедливого
устройства человеческих сообществ, требует неспадаемых созидательных усилий и абсолютной честности каждого?!
Почему эта, казалось бы, ясная поведенческая
мысль до сих пор не может овладеть человечеством?.." - Он так и сказал:
"поведенческая мысль". В памяти отложилось это давнее неожиданное откровение
отца. Но тогда собственный молодой его разум был настроен
на другие житейские проблемы, не готов был откликнуться на
беспокойные отцовские раздумья. Теперь отец возвращал его, уже
умудренного жизнью, все к той же не разрешенной загадке человека.
Горестно, с некоторой долей ироничности,
Алексей Иванович усмехнулся: похоже, отец надеялся, что он, его сын,
сумеет то, что не сумел он сам за долгую и деятельную свою жизнь?..
На одной из страниц увидел Алексей Иванович
выписанную отцом четкую мысль Сталина: "Все зависит от
условий, места, времени..." Это безоговорочное
утверждение Сталина он знал, еще в пытливой юности вписал в свой дневник. Но как
ни высок был для него авторитет вождя
сформировавшего это философское положение,
он дерзнул уточнить его своим пониманием. К словам "все зависит от условий, места,
времени", он дописал: "И от человека".
По какому-то неясному побуждению, он показал
дневниковую запись отцу. Отец прочитал. Снял очки, сидел в
раздумье, сдавив пальцами переносье, как всегда делал в случаях
затруднительных. Спросил:
- И как ты это понимаешь?
И он со всей пылкостью юности стал отстаивать
свою веру.
- А вот так, - говорил он, горячась, -
человек всегда должен оставаться самим собой. При любых условиях, на любом
месте, и при любом времени!..
- Оставаться
самим собой - это хорошо, - сказал отец. – Но случись, к примеру, война? Изменяется
обстоятельство. И судьба человека неизбежно
будет зависеть от места и времени?!
- Нет,
нет, пап! - все с той же горячностью возразил он. - Еще
раз нет! Ты знаешь песню про "Варяга"? Японская эскадра заперла
русский крейсер в бухте и предложила сдаться. Команда подняла флаг, вышла
навстречу десяткам кораблей. Вступила в бой, и погибла в бою вместе
со своим "Варягом". Условия были? - плен. Было и место -
укрытая бухта. И время - русско-японская война. А человек - вся
команда! - предпочли бой и смерть. И это тогда, когда условия, место
и время диктовали им плен!..
Отец молчал, закрыв глаза, сдавив, казалось,
до боли переносицу. Наконец, сказал хрипло, как будто через силу:
- Наверное, ты прав...
Из нынешнего времени Алексей Иванович мог
представить, какая буря пронеслась тогда в мыслях отца, предчувствовавшего близкую
войну и проглянувшего, быть может, в тот час его судьбу, трагическую
судьбу своего сына. И если, пройдя сквозь адовы муки
души и тела, он все-таки возвратился, ни в чем, не изменив себе, то, как
понимал он теперь, потому только, что тогда, в юности, с ним
рядом был отец.
"Так как же быть с
"текучестью" человека, которую так прозорливо проглядывал
Толстой? Согласиться и примириться, как с неизбежностью? - думал
Алексей Иванович. - Но жизнь обнаруживает и другое. Тот же "Варяг",
который питал мою юношескую веру. Джордано Бруно, взошедший на костер за свои
убеждения. И генерал Карбышев, убеждения которого, не поколебали ни
изуверства фашистских лагерей, ни сама мученическая смерть?
Значит, есть, существует нечто, возвышающее человека над природной сущностью
всего живого принужденного приспосабливаться и к летнему зною и к зимним
холодам?
Человек "текуч", пока живет без
убеждений, - думал Алексей Иванович. - Когда же убеждения
устанавливаются, останавливается и его "текучесть". Человек
обретает упорство оставаться самим собой в любых
обстоятельствах. Человек мыслящий, человек убежденный, может выстаивать в своих
убеждениях, как выстаивает прибрежная скала под ударами бьющих волн океана!
Отец виделся ему из нынешнего времени именно
таким. Всегда он был чужд житейской суетности, и никогда не приспосабливался
применительно к подлости. Либо изменял, в пределах своих
возможностей, неподобающие условия бытия, либо, не колеблясь,
оставлял самые завидные, с точки зрения житейского благополучия должности, если
обстоятельства вступали в противоречия его убеждениям.
Человеческая "текучесть", в одних случаях вызывала
в нем сострадание, в других, явное и жесткое неприятие.
Алексей Иванович перелистнул несколько
страниц, выискивая редкие в этой тетради раздумья самого отца и чувствуя, как
напряглось тело в ожидании очередной важной мысли, стал вчитываться в отцовскую
запись:
"Прочитал, да еще на ночь, выдержки из
дневника Доддса, американского посла в Германии, во времена довоенные, когда
команда Гитлера уже обрела власть над немецкой нацией. Прочитал, и сумеречно
стало в мыслях, проворочался в раздумьях ночь.
Если уж тогда, в конце 30-х, этот
классический американец ужаснулся разгулу немецкого фашизма и по-человечески
встревожился тем, что на святой его родине, в США, немало
преуспевающих
людей ратуют за установление такого же фашистского строя, то можно ли оставаться спокойным теперь, когда ракеты и атомные
устройства оказались во власти тех, кто вновь забредил возможностью мирового
господства?
Как все-таки по-детски забывчивы люди! Да,
все возликовали, все, увидев, как стойкостью российских ветров развеяны были
зловещие тучи гитлеровского нашествия.
Не хотелось и думать, что в небытие они
ушли. Между тем, те же зловещие тучи, как и предвидели
мыслящие люди, вновь сгрудились на другом конце земли. И проглянувший на
какое-то время из чистого неба солнечный луч, отнюдь не мог быть
поводом к успокоению.
Слишком многие из живущих на земле ироничны,
хуже - беспечны к прозорливости мыслящих людей. Тогда как очень
многое, что мыслится, потом совершается в действительности,
и зачастую с большей трагичностью, чем думалось. Такое и произошло
с немецким фашизмом.
Когда Гитлер заявил: «Я освобождаю людей от
отягчающих ограничений разума, от грязных и унижающих
самоотравлений химерами, именуемыми совестью и
нравственностью», в пору было посмеяться над напыщенностью
философствующего национала, отменившего Разум. Когда же философия
обернулась действительностью, когда запылали города,
задымились трубы Освенцима, когда земля охнула от миллионов могил,
было уже не до смеха. И тот, кто выдает индульгенцию от отягчающих
ограничений разума, тот замахивается на самого человека. И беспечность в этом
главном вопросе бытия равносильна общей гибели человечества. Или, что, в
общем-то, то же самое, насильственный возврат человека
в звериное состояние".
Тревожась за будущее человека, отец наверняка
помнил кадры
трофейной немецкой кинохроники, обнародованные в самом конце войны, - завершающий этап так называемых опытов по превращению в животное. В тех леденящих душу
кадрах русский парень, почти ещё мальчишка, с дебильным лицом и бессмысленным
взглядом передвигался на четвереньках по аккуратному немецкому газону, припадал
торопливо к земле, зубами рвал растущую траву, по-звериному оглядываясь, жадно
поедал. Фашиствующие нелюди нашли способ низвести человека до состояния
бессловесной скотины.
Отец не мог не вспомнить, не пережить заново те трагические, навечно впечатанные в его сознание выверты истории. Что было бы с отцом, если бы дожил он до нынешних времен, увидел бы распятую предательством Россию, год от года умерщвляемую жестокостью, жадностью, соперничеством, потребительством, - всей людской порочностью, брошенной к нам из так называемой Западной цивилизации?
Алексей Иванович только на минуту представил
отца живым в ворохе газет, перед выпученным зрачком нынешнего телеэкрана, в
котором совокупляются с наглостью, и в глазах у него потемнело от
еще одной, неизбежной смерти отца.
В тяжелой задумчивости сидел Алексей
Иванович, охватив голову руками. Из глубины памяти, как-то сами
собой всплыли слова Рериха, мудрого Махатмы, посвятившего жизнь
познанию истин: «Мы забыли, что не рука, но мысль и творит и побеждает».
"Да, да, - думал Алексей Иванович, -
все, что происходит, и ещё будет происходить с людьми в мире, все
исходит от разума, из мыслей человека, - все доброе, человечное, и
все злое, бесчеловечное.
Человек и его человечность - есть мера всему!
В раздумье он потянулся к все еще раскрытой
папке, где лежала стопка исписанных листков. Листки оказались
письмами однокашников отца по Кронштадтской гимназии. Из них трое
не только сохранили полувековую дружбу, но и скрепили ее еще
и родственными связями: женились на сестрах отца. И в жизни даже очень
преуспели, утвердившись на должностных верхах: один - генералом
в военной Академии, другой - полковник медицинской службы, третий - в лесной
науке, где за труды в разработке поточного метода заготовки
древесины удостоился даже Сталинской премии. Отец среди них
выглядел не то чтобы неудачником, но уж точно скромником. Время от
времени все они навещали отца, - все-таки они приезжали к
нему, а не он к ним! Являлись всегда с богатыми дарами, неизменным
коньячком, разговорами, весельем, не упускали случая с
дружеской прямотой упрекнуть отца за упускаемые им возможности
сделать достойную карьеру. Отец хмурился, досадовал, отвлекая от неприятного
ему разговора, поднимал рюмку, не пригубляя (горячительные
напитки он на дух не переносил), начинал напевать высоким голосом:
«Любо, братцы, любо,
С лесом в дружбе жить,
Скромному Ивану не
приходиться тужить...»
Жалельщики только головами качали: Эх, Иван,
Иван...
И вот как странно распорядилась жизнь: все
други его жившие в довольстве и благополучии, и жены их - его сестры,
- никто не дотянул и до семидесяти годов, а отец в своей
житейской неустроенности, все жил, работал, мыслил!..
«Да, кому ведомо, - думал Алексей Иванович, -
с какой стороны подбирается к человеку его смертушка? То ли в мозг ударит инсультом,
то ли инфарктом остановит сердце, то ли, как во времена
нынешние, иномарка с опьяневшим от вседозволенности новорусским собьет тебя на
тротуаре, то ли киллер с совестью залепленной долларами, всадит тебе в затылок
оплаченную пулю?
Отца смертушка долго обходила, видно,
уважала скромность его жизни, жизни не для себя. А все равно
достала!..»
В невеселых раздумьях перебирал Алексей
Иванович письма, сохраненные отцом. И обнаружил несколько усохших от
времени листков, исписанных все тем же бегущим твердым
почерком отца. Похоже, отец все же решил оправдаться перед упрекающими
его друзьями за свою, как будто бы не сложившуюся, жизнь, и Алексей
Иванович, расправив листки, притаив дыхание, стал читать:
«Может быть, в одном вы правы: не покладист я для карьеры. Характер
колючий. В суждениях самостоятелен. В делах - тоже. Энергии, задора, сделать
что-то для общего блага - через край. А кто-то над тобой поставленный, тебя,
как норовистого коня, с широкой дороги в загон. Тпру, милый! Не
рвись вперед! Поостынь, малость, пока подберем тебе новый воз да по
шее хомут!..
Примерно так мог бы обозначить то, что
частенько определяло мою жизнь. Горько? Горько, вроде бы.
Покруче мог проявить себя. А теперь вот думаю: что значит покруче?
Быть на виду, на должностной высоте? Ворочать миллионами государственных денег
да судьбами тех же чиновных людей? И оттуда, с высоты, обозревать
идущую вдали от тебя жизнь, и верить, что это ты, своей властью
движешь жизнью!
Мог бы, други мои, мог бы всего достигнуть. Таких ли высот снизу завидных! Зрил все ступени, идущие вверх и знал, что надо сделать, чтобы шагнуть на следующую. Знал, а не вшагивал. Нужды не видел карабкаться к должностному благополучию! По характеру моему надобно мне живое дело. Каждодневно должен ощущать материал, который усилиями моих знаний, моей энергией, превращался бы в полезную для общества реальность. Лес стал для меня такой реальностью. В годы для страны трудные, вместе с людьми, меня окружающими, превращал лес в дома и топливо, в лыжи для армии и шпалы для железных дорог, и ружейные болванки, и фанеру для самолетов. Потом учил тому же, что делал сам, деревенских парней в лесном техникуме. Потом, как известно, взращивал леса в лесхозах. Потом берег изрядно уже потрепанную российскую природу на заповедных территориях. Работа вроде бы неприметная, а необходимая, как землю пахать. И удовлетворение было, порой даже радость была. А вы в один голос: не сложил ты судьбу, Иван!
Убежден, в стремлении к высоким должностям, к
житейскому благополучию, есть не всегда чистая подоплека, - подоплека расчетов,
страстей, изворотливости, унижений. Человеку же надлежит всегда помнить о
человеческом своем назначении: делами своими создавать
справедливые человеческие условия жизни для всех. Подчеркиваю: для всех, не для
себя только! Для моего разума это ясно, как день..."
Письмо не было закончено, не было отправлено.
Но как проглянул отец в этой неожиданной щемящей душу исповеди!
Алексей Иванович со все усиливающимся
тягостным чувством вины за былое равнодушие к отцовским делам и мыслям вложил в
папку письмо, потянулся по еще неясному побуждению к нижней полке, где лежал
альбом с семейными фотографиями, переданный ему отцом к шестидесятилетию. На
альбоме была все та же надпись: "Сыну".
И в этом проглянуло трогательное старание отца
о том, чтобы в памяти сына сохранилась память о нем!
Все в той же не успокоенности проглядывал
Алексей Иванович фотографии, приклеенные к плотным картонным листам.
Расположены они были по годам, от отрочества до дней, когда
отец еще не был сломлен болезнью.
Прошлое возрождалось в знакомых лицах,
когда-то сопровождавших отца в его жизни. Фотографии зримо подтверждали, что
отец никогда не смирялся первозданными условиями бытия, в
которые попадал по долгу службы. Не медля, начинал все изменять. И люди под
напором властной его энергии брались за пилы, топоры, освобождали в таежной
глухомани площадки,
ставили дома, прокладывали лесовозные дороги к рекам, плотами сплавляли древесину туда, где в ней была нужда. И вот она,
былая глухомань, в фотографиях: дома в рядок, школа, библиотека, клуб, хотя примитивный, но стадиончик,
электропровода на столбах. И люди тесно стоят вкруг отца с просветленными лицами!..
Взгляд Алексея Ивановича остановился на
фотографии отвесных Карадагских скал с застывшей у подножья пенной черноморской
волной. И хотя на фотографии отца не было, в груди заныло
щемящей неостановимой болью. Он даже подумал, что фотографию
Карадагских скал отец поместил в альбом, предназначенный ему, его сыну, не без
умысла: нравственная боль, которую в тот год
причинил он отцу, наверное, жила в нем невысказанное до конца его дней.
Алексей Иванович почувствовал жар стыда на своем лице, попробовал охладить щеки тыльной стороной ладоней. Жар не проходил, и все, что было тогда на этом каменистом клочке Крымской земли, стало разворачиваться перед мысленным взором с пронзительной, как всегда, отчетливостью.
Было это в первый год после окончания войны.
У него на остатках ног, в швах, открылись раны. Он стягивал их
пластырем, чтобы
хоть как-то надеть протезы, но швы не заживали, раны гноились. Врачи сказали: помочь может только море, южное море. И отец решился: оставил систему, в которой долго
и успешно работал, списался, принял
предложение директора Карадагской биостанции
поработать у него в должности заместителя. Так оказались они у моря. Морская вода и крымское солнце
оздоровили, стянули раны на ногах. Но образовались раны другие, раны в душе
отца, оздоровить которые невозможно было ни морем, ни солнцем. И раны эти нанес отцу он, его сын. Помнил, помнил
Алексей Иванович то партийное собрание, на котором отец со свойственной ему горячностью
и прямотой выступил против самого директора.
Не мог смириться с научной
непродуктивностью станции, с небрежностью,
непродуманностью в ее руководстве, с непорядочностью самовластного директора, которого заподозрил в
своекорыстии. Как всегда, столкнувшись
с подлостью, отец упал грудью на амбразуру, надеясь, что он, его сын, поддержит
его в этом самоотверженном поступке.
В партийной организации было пятеро: четыре сотрудника, и пятым он, Алексей Иванович, вернувшийся с фронта
коммунистом. Один из сотрудников поддержал отца, другой поддержал директора. В
наступившей напряженной тишине все ждали, что скажет он, Алексей Иванович. И
он, сын, проголосовал против отца!..
Что понимал он тогда в путанице служебных
взаимоотношений, он, прошедший через пекло войны и оставшийся тем
же мальчиком-идеалистом, каким ушел из дома?! Его верой
была некая высшая справедливость, и утверждение этой некоей высшей справедливости он считал
жизненным своим долгом. Всегда, во всем, несмотря ни на что! Таким он вырос
рядом с отцом, таким был и теперь, тоже
рядом с отцом. Ради этой высшей справедливости он выступил против
неубедительной, как показалось ему, позиции
отца. Знал бы он тогда, что справедливость и невежество несовместимы. В сущности, он ничего не знал о
положении на станции, слышал лишь
то, что говорили противники и защитники руководства. Своим неведением (как оказалось потом, отец был прав!), он дал возможность ничтожному увертливому руководителю
восторжествовать!
Алексей Иванович понял это потом, когда отцу
пришлось покинуть биостанцию. Но тогда, когда вернулись они с
собрания домой, он как будто заледенел в сознании справедливости совершенного
поступка и, удаляясь в свою комнатушку, даже не откликнулся
на слова уязвленного отца, сказанные все сразу понявшей
и тоже не вставшей на сторону сына Елена Васильевна:
- Воспитали сокровище!..
Тогда он не впустил в себя эти страшные
слова отца, потрясенного его предательством. Но сейчас память
вернула их, и памятные слова обожгли сознание. Сдавило сердце, снова заполыхало
лицо неуходящим раскаяньем.
Долго сидел Алексей Иванович в
неподвижности, рассеянно теребя угол отцовской тетради, стараясь избыть
нравственную боль.
И вот что особенно непереносимо было
сознавать: в последующие годы отец ни разу не напомнил ему о его поступке, не
изменил своего отцовского заботливого внимания к его, Алексея Ивановича,
жизни. Даже в записях своих ему адресованных, ни словом не упомянул о
том. Но, как понимал он теперь, нравственная рана, тщательно им
скрываемая, так и не затянулась в душе отца.
"О, если б можно было возвратить время к
тому дню, но с умудренностью уже нынешней! - думал Алексей
Иванович, сжимая себя руками, скорбно покачивая головой. - Если бы...
Природа позаботилась о человеческой памяти, предоставила человеку
возможность мысленно возвращаться к любому из прожитых
дней. Но вернуть себя в прожитое, чтобы что-то поправить,
доделать, никому из живых не дано. Не дано никому писать черновик своей жизни,
жизнь каждого пишется только набело. И если когда-то ты поступил недостойно,
остаются при тебе только память и угрызения совести. Разумеется, если она у
тебя есть..."
Вспоминал Алексей Иванович то одно, то
другое. Вспоминалось почему-то все доброе, мимо которого в то время он проходил,
считая внимание и ненавязчивую заботу отца чем-то само собой
разумеющимся.
Вспомнилось, как в один из дней под новый
год отец и мама навестили их, как всегда с некоторой долей
стеснительности. Подобные посещения бывали не часто. И отец, и мама старались не отягощать невольным своим вмешательством и без того
усложненную семейную и деловую жизнь сына.
Зойченька в тот день гостей ждала, настроена
была приветливо, и когда после праздничного чая сидели, разговаривали о делах
личных, городских, общегосударственных, она, увлеченная своей
новой идеей исследования людских умонастроений, предложила ответить на вопросы
анкеты, составленной по историческим образцам. Все согласились, - ответили
письменно, ответ каждого зачитали вслух. Ничего необычного вроде бы
не было в этом очередном умном развлечении. Но уже тогда Алексею
Ивановичу услышалось нечто важное в этих, как будто шутливых ответах, он их
собрал, сложил в одну из многочисленных своих папок. И теперь в непонятной
суете стал искать и нашел.
Вот она, анкета отца. Ответы, как всегда
прописаны четким твердым почерком, с некоторым даже нажимом - свидетельство категоричности
суждений.
Алексей Иванович начал вчитываться в
исповедальные ответы. Вот первый вопрос: Ваша отличительная черта? Отец
отвечает: ожидание.
Алексей Иванович задумался. Отец всегда был
человеком дела, живого, неостановимого. И вдруг - ожидание! Что ожидал отец?
Семейного взаимопонимания? Более масштабного места работы,
где мог бы развернуться в полную силу? Может, признания своих заслуг? Или
душевной близости с ним, с сыном, всегда стеснительно замкнутым,
возможно, от излишней суровости самого отца? Может быть,
ожидание его было далеко не личным? Постоянно его тревожило
будущее человечества, самого человека.
Разгадаешь ли теперь загаданную отцом
загадку?
На вопрос: Достоинство в человеке? - Отец
отвечает жизнелюбие. Самый большой недостаток? - Невежество.
У Алексея Ивановича ёкнуло сердце о еще
неостывшем воспоминании, о Карадаге.
Да, ничто так не огорчало отца, как
невежество, особенно невежество должностных людей. Не раз он говорил:
"Невежество в должности, обретая право давать указания всем, кто служебно ему подвластен, одним этим губит множество умных
дел. Особенно тревожило его
глобальное политическое невежество, вскоре обернувшееся кровавыми трагедиями
второй мировой войны.
Долго думал Алексей Иванович, почему самым
близким для себя поэтом отец обозначил Лермонтова? Насколько
помнилось, он часто и к месту цитировал Пушкина, Толстого Алексея
Константиновича, Хайяма, Руставели, а указал, все-таки,
Лермонтова. Может быть, ближе к душевному его состоянию оказалось Лермонтовское
одиночество? Наверное, так. При всей своей деятельной общественной жизни в отце
таилось ощущение одиночества, особенно в последние годы, когда умерла
мама. В последние годы его жизни, он замечал повлажневшие глаза отца, когда,
склонив голову, охватив лоб ладонями, слушал он часто в то время звучавшую
по радио арию мистера Икса, в исполнении Георга Отса. Весь он
сжимался, плечи вздрагивали, когда Отс, поднимая голос до трагической ноты,
выговаривал:
"Устал я греться у
чужого огня,
Но где же сердце, что
согреет меня..."
Алексей Иванович не мог не видеть давящую
отца тоску одиночества. Но сам жил он в те годы иным состоянием души, жил в
удовлетворенности делами, житейскими радостями, не расположен был вникать в
суть отцовских переживаний. Удобнее было объяснять проступающие слезы отца лишь
чувственным воздействием искусства! И вот теперь, когда он почти достиг
возраста, в котором тогда отец был, прорвалась в сознание вся трагичность
душевного его одиночества. Приникнув к молчаливым листкам, переданным
ему в наследство, сознал он всю жестокость тогдашней своей глухоты!
"Вот они, возрастные гримасы жизни, -
думал Алексеи Иванович, чувствуя, как сжимается все тем же
запоздалым раскаяньем сердце. - Когда молоды, когда в силе, как легко отстраняемся мы от, казалось бы, не такого уж тягостного
человеческого долга - согревать по возможности одинокие души постаревших
отцов! И только когда время передвигает тебя
на место отца, в последнее десятилетие собственной твоей жизни, проникаешься,
увы, уже непоправимыми его страданиями, и сам начинаешь страдать от глухоты и
слепоты тех, кто сейчас молод!"
Склонясь над столом, с тоской невозвратности
прошлого, перебирал Алексей Иванович листки бумаг.
Взгляд его снова остановился на помятом листе
давней анкеты. Увидел вопрос: Ваше любимое занятие? И тут же
категоричный
ответ отца: "Мыслить". Да, в
этом ответе весь отец! Ум его не знал
покоя. Мыслью охватывал он все: от бытовых мелочей, семейных и служебных
взаимоотношений до мировых экономических
потрясений, судеб американских индейцев, пугающих демографических прогнозов,
опасной хрупкости озонового слоя. И более
всего тревожился от неразумной деятельности самого человека.
Здесь собственные его мысли были в полном
созвучии, с беспокойными мыслями отца.
Алексей Иванович сам не раз обращался к раздумьям тех, кто прозорливо проглядывал возможные причины
будущих земных катастроф. Порылся в своих папках, памятливо извлек нужное. Да, вот-вот, это один из его любимцев,
скромнейший и великий мечтатель из Калуги Циолковский:
"Представьте себе, что мы бы вдруг научились вещество полностью превращать в энергию, т.е. воплотили бы преждевременно формулу Эйнштейна в действительность. Ну, тогда, при человеческой морали, пиши, пропало, не сносить людям головы.
Земля превратилась бы в ад кромешный: уж люди
показали бы свою голубиную умонастроенность - камня на камне бы не
осталось, не то, что людей. Человечество было бы уничтожено! Помните,
мы как-то говорили с вами о конце света. Он близок, если не восторжествует
ум!.."
"Если не восторжествует ум! - повторил
про себя Алексей Иванович. - Сказано это было во втором десятилетии века
двадцатого. В середине века первые атомные бомбы уже испепелили сотни тысяч
людей. Технический прогресс рванулся в обозначившийся
прорыв, в миллионы раз увеличив возможности мгновенного уничтожения
всего живого. А нравственность - детище разума, - диктующая человеколюбие, все еще
пребывает где-то в средневековье. И проницательный ум калужского мыслителя
уловил этот опасный разрыв.
«Что же теперь? - думал Алексей Иванович в
смятении, вызванном мыслями других умов. - Так и будут люди, одурманиваться
зрелищами, сытиться хлебами и покорно ожидать, когда под Дамокловым
мечом всеобщего уничтожения подавлен будет в человеке человек?
Должна же в людских умах соскочить защелка слепого доверия к тем, кто
прибрал к рукам власть над средствами человеческого уничтожения?»
Голову ломило от лихорадочной работы мозга.
Алексей Иванович тер лоб, виски, стараясь хоть как-то притишить охватившее его
возбуждение. Разбуженный разум искал ответа на все пережитое
за эти вот часы общения с простенькой отцовской тетрадью, оставленной ему в
наследство.
Теперь листал он уже свои записи,
свидетельства своих раздумий. Чувствовал, что где-то близко была истина,
могущая успокоить разгоряченный ум, дать хотя бы нить надежды,
протянутую из будущего.
"Да, да, была же она, эта ниточка, - говорил сам себе Алексей Иванович, вспоминая и выискивая в записях
тому подтверждение. - Вот они, мысли людей, устремленные в будущее. Ленин
пришел к убеждению, что "сознание не
только отражает действительность, но и творит её". Он же утверждал:
"Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить
его".
Вторит ему психолог Рубинштейн:
«Для того чтобы преобразовать действительность
на практике, нужно уметь преобразовать ее мысленно! Все здесь ясно,
как день: невозможно построить дом, если прежде мысленно не
увидеть то, что задумал построить!»
А вот и Достоевский: "Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего никогда не
может получиться никакой хорошей действительности".
Разные умы, а равно прозревают, равно
утверждают разум человека, как силу, способную изменить не устраивающий человека
мир.
- Да, все так, - думал Алексей Иванович с
возрастающим возбуждением. - Но и разум разуму - рознь! Есть немало
людей, может быть их даже очень много, у кого ум не созвучен с
нравственностью. Руководствуются эти люди понятиями тех времен,
когда в джунглях, с копьями, ружьями, а потом и с пушками, в соперничестве
друг с другом, выискивалась добыча и первобытные утехи. Разум таких людей
холоден, рассудочен, ищет одних лишь выгод, и только для себя.
И живут эти обладатели алчных умов рядом,
действуют нагло, широко, во всем обжитом пространстве земли.
Что может противостоять этим расплодившимся
хищникам жизни? Только человек, возросший на разуме нравственном, озабоченный
общим человеческим будущем человечества. Только он, Человек!..
Алексей Иванович вспомнил, когда-то он
выписал важную мысль, которая в свое время открыла ему пространную нишу для
собственных раздумий. Достал нужную тетрадь. Раскрыл. Вот она, мысль из эпохи
как будто далекого Ренессанса, но как приложима она к нынешнему, хаотичному
состоянию человека!
Джомани Пико Дела Мирандола из "Речи о
достоинстве человека", где он, как бы воспроизводит слова Бога,
обращенные к только что получившему жизнь Адаму:
"Не даем мы тебе, о Адам, ни
определенного места, ни собственного образа, ни особой
обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию,
согласно твоей воле и твоему решению. Я
ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда
тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни
бессмертным, чтобы ты сам, свободный
и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по
велению своей души и в высшие,
божественные".
Вот мысль, действительно от Бога, - думал
Алексей Иванович, - "...Ты можешь возвыситься до человека божественного. И
не по воле, проявленной свыше, человеком божественным ты
можешь стать по велению своей души!.."
Алексей Иванович измученно сидел над ворохом
бумаг и папок, остывая от разгоряченных чувств.
Да, отец знал, какое наследие оставить ему,
своему сыну, - он и теперь из своей невозвратности направлял
мыслительную работу его разума!
До ясной ясности вспомнил Алексей Иванович, как отец, уже до неузнаваемости иссушенный болезнью, не поднимавшийся уже с постели, в один из дней как будто вдруг что-то вспомнил, напрягся, пошевелил исхудавший рукой, похожей на вытянутую птичью лапу, как бы призывая его наклониться, проговорил слабым голосом:
- Помни, только мыслящий человек способен
изменить что-то в жизни... - Помолчал, отдышался, добавил тем же
слабым прерывающимся голосом: - И о том помни... Чем выше идеал...
тем больше псов его облаивает. Мысль мудрого Рериха...
Отец и в затухающей своей жизни беспокоился,
каким путем пойдет он, его сын, - верхним путем мудрости или нижним путем
бездумной суетности.
Разбуженная память вернула Алексея Ивановича,
к другому дню, когда решено было поместить уже быстро слабеющего отца в
больницу. Отец и в иссушающей его болезни ясно мыслил и понимал,
что этот путь в больницу для него без возврата. Собирая отца, Алексей
Иванович купил ему электрическую бритву, - всю жизнь отец
брился «безопаской», намыливая щеки, теперь, в
больничных условиях, это было ему не по силам. Увидев новенькую
бритву, отец как-то даже растерялся, глаза в удивлении расширились,
удивление сменилось недоверием, и вдруг вспыхнула в его глазах надежда.
Да-да, он увидел в глазах отца вспыхнувшую надежду! -Может быть, и не все еще
потеряно? Он может еще вернуться, если ему приобретают вещь,
рассчитанную на годы?..
В больнице надежда угасла, настроение врачей он улавливал, понимал, что дни его сочтены. И затосковал по
дому.
Алексей Иванович перевез его к себе на
квартиру. И когда лежал он в комнате, на свежих простынях, вне больничных
тревог, в домашнем спокойствии, и Зоя, уловив его желание, быстро приготовила
из черносмородинного варенья напиток, принесла в чашечке на блюдце, и отец,
сделав глоток, вдруг просветлев лицом, признательно выговорил:
- Вот это то... Вот этого я хотел. - Алексей Иванович не выдержал, вышел из комнаты, чтобы отец не заметил
обожженных слезами глаз, - невмоготу было видеть его дрожащие руки, благодарный заискивающий взгляд даже за такую малость
проявленного внимания!
Удивительно, как ни терзала, ни изгрызала
болезнь тело отца, ум его оставался ясным. И пока разум
владел убывающими силами, отец с присущим ему мужеством отстаивал
свою способность действовать, жить. По-прежнему прочитывал газеты,
вслушивался в обзоры политических радиокомментаторов. Когда Алексей
Иванович навещал его, он в каком-то суетном старании быть полезным снабжал его
последними политическими новостями, своими прогнозами на развитие событий в мире.
Порой, скопив в себе энергию мысли, начинал
убеждать себя, что любую болезнь можно победить силой разума и воли.
Не мог забыть Алексей Иванович, как отец уже
заметно изнуренный долгой болезнью, решил бросить вызов физической
своей немощи.
Было это на хуторе, где Алексей Иванович жил
и работал до глубокой осени, в один из теплых августовских дней. Они с
Зоей собрались
пройтись до леса, поискать грибков, и отец, гостивший у них уже неделю, сидевший только на терраске в невеселых раздумьях, созерцая гладь озера и даль лесов, вдруг
взбодрил себя, поднялся, сказал с удивившей их твердостью:
- Хватит сидеть. Пойду с вами! - И пошел. Пошел,
вскинув голову, торопливыми шагами,
энергично подпираясь палочкой. Он и
Зоя - шли рядом, вроде бы не замечая его усилий, ободряя обычными в таких случаях словами, стараясь усилить
обретенную им радость движения. Но
уже у леса, отец начал приостанавливаться, передыхал, широко расставив ноги и опираясь на палку. Под сосны шел уже полукругом, спешащими, все
укорачивающимися шагами и не сел, повалился на мягкий подстил хвои, с
пробивающимися проплешинами мха. Лежал на
боку, жалко и в то же время радостно
улыбаясь. Потом переполз, сел спиной к сосне, сказал прерывающимся голосом:
- Идите, идите... ищите грибы...
Когда, побродив по краю бора, они вернулись
ко все так же сидящему под сосной отцу, он, уже отдышавшийся,
умиротворенный ветровым шумом, запахами леса, памятью о прежней своей жизни,
встретил их радостно-заискивающим взглядом, в котором была
и старческая гордость, что вот, все-таки смог, оказался в силах,
и тревога за свой обратный путь к дому.
И что-то еще: до боли знакомая
бессловесная мольба к ним обоим о добром отношении между
ним и Алексеем Ивановичем, между ним и Зоей, между ними самими, между всеми
людьми, - мольба о согласии с лесом, небом, землей, всем неохватным
великолепием мира! Все это так ясно прочиталось в его
взгляде, что Алексей Иванович едва удержал себя от покаянного желания
припасть к отцу с благодарностью за все, что сделал он за свою
жизнь. И до невыносимости пожалел его, когда Зоя у самых его
ног выкопала пять крепеньких белых грибков, и отец, совсем уж
по-детски, расстроился оттого, что плохо стал видеть.
Когда шли к дому, Зоя подставила ему плечо,
и придерживала бледную слабую его руку на своем плече, вела
осторожно, предупредительно, и это проявленное невесткой внимание до слез растрогало
отца, еще больше самого Алексея Ивановича.
«Время не дало отцу остаться в жизни, -
думал Алексей Иванович, но он, отец, и сейчас рядом со своим неуступчивым стремлением
впитать в свой деятельный ум хотя бы частицу из тысячелетней мудрости
человечества. Он и сейчас побуждает думать и думать над вечной, еще не
разгаданной мудростью жизни.
Отец отдавал все силы свои на то, чтобы
создавать для людей человеческие условия жизни. А на
завершающих листах тетради выписывает пророческие слова Достоевского:
"Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления
себе, для чего ему жить, человек не
согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом
его всё были хлебы".
Не в том ли увидел отец главный вопрос бытия?
Что станет с человечеством, если люди отвратят себя от хлеба
духовного и замкнут свою жизнь только на хлебе земном и зрелищах? Самоистребит ли себя человек,
если безответным останется вопрос: для чего
ему, человеку, жить? Достоевский пророчествовал - истребит.
Но разум человека и прежде, и теперь в
поиске!
Один из мудрецов сказав: «Есть много
огромного в мире, но огромнее всего человек», еще на заре
цивилизации уловил беспредельность духовного мира человека. Через
тысячу лет эту мысль отец выписывает в свою тетрадь. Через отца эта
же мысль возбуждает мою мысль. Так, через тысячелетие вытягивается эта же цепочка
поиска истины. И сколько умов ищущих, в веках прошлых и нынешних,
причастно к этому бесконечному поиску!
«Так, что же в этом общем поиске выпадает на
мою долю? - думал Алексей Иванович. - Не ради же забавы отец мыслями многих
думающих людей будил мои мысли?
Все так. Но даже когда проясняется истина
цели, знать надо и то, как её постичь? Не эту ли долгую думу
оставил мне в наследство отец?!».
В глубоком раздумье сидел Алексей Иванович
среди бумаг, раскрытых папок, тетрадей, фотографий из годов былых.
Наконец, тяжко вздохнул, собрал свои записи, отложил альбом с
фотографиями. Прежде чем закрыть отцовскую тетрадь, вынул из нее памятную
анкету. В самом конце ее был ответ отца на последний вопрос:
"Любимое изречение? Девиз вашей жизни?" - твердой рукой
отца было написано: "Я сделал все,
что мог. Пусть сделают то же
другие"…
*
*
*
Текст для публикации взят
из посмертных сборников
Владимира Григорьевича Корнилова:
«Мои невесты», Кострома, 2003
и
«Жизнь», Кострома, 2005.

Настоящая электронная публикация
подготовлена
Некоммерческой организацией
"Гуманитарный фонд
"СВЕТ"
имени писателя
В.Г. Корнилова
Ответственный редактор – И.В.
Корнилов ![]()
Отзывы, предложения просим направлять
на e-mail:
fundkornilov@gmail.com; kornilovfund@yandex.ru